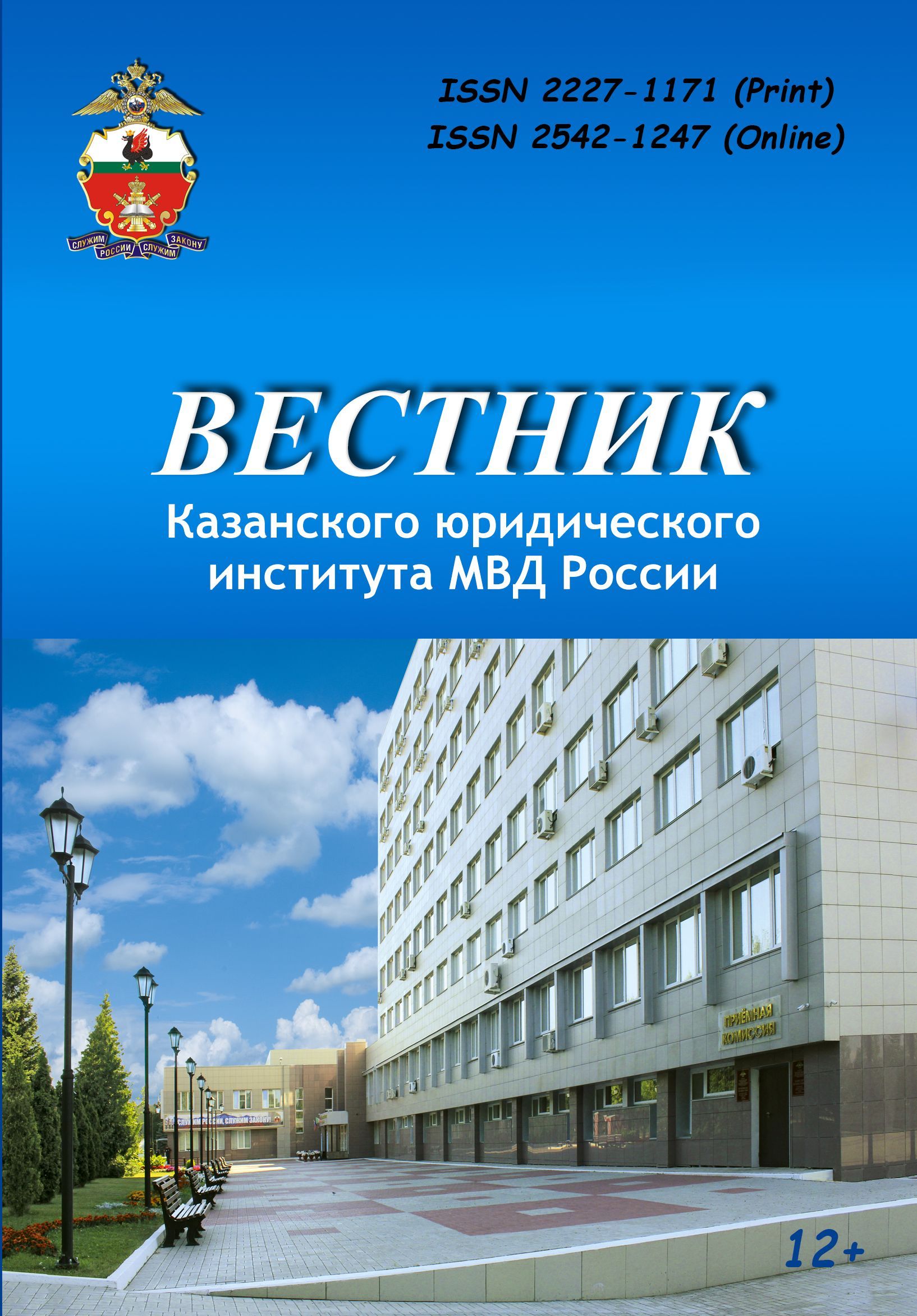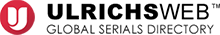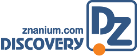Sankt-Peterburg, St. Petersburg, Russian Federation
from 01.01.2022 until now
UDC 343.9
Introduction: the article discusses issues related to the development of the crime prevention system in Russia and abroad, and the identification of the genesis of the prevention system. The mechanism of the current state of this system is presented, reflecting aspects that are identical and different from the Russian crime prevention system. The study presents the results of monitoring Russian and foreign legislation, criminological experience, including areas of crime prevention in the Russian Federation and foreign countries. Materials and Methods: in the process of writing the article, comparative legal, historical, statistical methods, as well as the method of formal logic were used. The research materials were the works of foreign (p. David, K. Geoffrey-Spinosi, G.V.F. Hegel, V. Sterpu, R. Clark) and Russian authors (P.D. Novikov, M.P. Kleimenov, A.V. Kondratiev, V.N. Burlakov, etc.). Research: the article provides a comprehensive criminal law and criminological analysis of research on the national and foreign crime prevention system, substantiating the main directions of criminological knowledge through the analysis of sources of law of states of various legal systems (families) that affect objects, subjects of prevention, and conditions that determine crime. Discussion and Conclusions: the article examines the key concepts of the crime prevention system, taking into account the main approaches used in the Russian Federation and foreign countries (USA, Great Britain, France, China and Japan). The analysis indicates the need to improve the national prevention system.
crime prevention system; legal family; criminological prevention; prevention; object of prevention
Введение
На возникновение научных представлений о профилактике преступности во всех мировых системах (семьях), как и в отдельных государствах, оказали влияние многочисленные факторы, включая представления о данном явлении в теологических доктринах. Впоследствии наиболее прогрессивные результаты научных исследований в сфере противодействия преступности и ее профилактики составили основу концепции осознания особой роли именно явлений профилактики. В процессе развития общества в связи с эволюцией и российских, и западных криминологических доктрин претерпели изменение научные взгляды в обозначенном направлении, в том числе и на особое предназначение органов внутренних дел (полиции). В конце ХХ в. (80-е гг.) ведущей в мире признана научная идея о том, что полиция должна реализовывать полномочия в направлении правоохранительной и социальной деятельности, выполняя, наряду с традиционным карательным функционалом, функционал социальной направленности в форме помощи населению, решения задач правоохраны, реализации государственных программ в сфере профилактики преступности.
В романо-германской правовой системе (семье), которая, по утверждению Р. Давида, никогда не основывалась ни на чем ином, помимо общности культуры, возникнув и продолжая существовать, развивалась вне зависимости от политических условий [1, с. 99], определенное значение для системы профилактики преступности имеют, во-первых, структурное разделение всей системы права на две подсистемы – частную и публичную; во-вторых, кодифицированный характер правового регулирования; верховенство закона [2, с. 128]; и, в-третьих, классификация государств на группы правовых систем – альянс стран германского права (Австрия, Венгрия, Германия и пр.) и стран романского права, избравших французскую модель системы права (Франция, Италия, Люксембург, Португалия, Испания и некоторые иные).
В отличие от романо-германской правовой системы (семьи), для правовой системы государств англосаксонской правовой системы (семьи) (общее право), созданной в Англии и развивающейся на основании ряда традиционных факторов (колонизаторская деятельность Британской империи, а в дальнейшем – достаточно устойчивый режим Британского Содружества Наций), характерно отсутствие кодифицированных (сводных) законов, осуществляющих правовое регулирование преступности, как и иные сферы общественных отношений.
Так, Аристотель в «Никомаховой этике», различая проступок как категорию «обычая», неписаного права, преступление ассоциирует с пространством «закона», установленного людьми и систематически корректируемого в соответствии с практикой политейной жизни по критерию правомерности (неправомерности). В качестве девиаций преступности, которые должны приниматься во внимание при ее противодействии, Аристотель указывал стремление к жизни со смещением высоких жизненных целей, с намерениями проявления зла и несправедливости [3, с. 109]. По Г. Гегелю следует проводить разграничение категорий «право» и «неправо», при этом преступление – «действительное, подлинное неправо», характеризующееся как «неуважение права в себе, и права, каким оно кажется мне, другим, где происходит деформация и есть необходимость противостоять» [4, с. 141].
В процессе развития общественных отношений научные представления о преступности, как и о ее профилактике, получили развитие в Средние века в теологических доктринах, основоположником которых признан А. Августин (354 – 430 гг. н.э.). Яркими представителями указанного научного течения выступала плеяда других исследователей: У. Оккам (1288 – 1349 гг.), Ф. Аквинский (1225 – 1274 гг.), И.Д. Скот (1270 – 1308 гг.) Б. Спиноза (1632 – 1677 гг.), лидеры научного направления школы социалистов-утопистов Т. Мор (1478 – 1535 гг.), иных, исследующих явление преступности и направления по ее профилактике.
В XV – XVI вв. начался поворот к мировоззрению, который основан на опытных научных исследованиях, способствующих формированию представлений, понятий в отношении категорий «преступление», «предупреждение преступности», «профилактика», базирующихся на подтвержденной практикой системе познаний в отношении свойства и важных закономерных связях реальной действительности [5, с. 56].
Научная идея о том, что профилактика преступности должна быть признана более приоритетной, чем карательная государственная политика, получив зарождение в научных трактатах глубокой древности, начиная с IV в. до н. э. (Платон), приобрела юридическое толкование и практическую реализацию в XVIII в., благодаря представителям классической школы уголовного права (немецкий юрист А. Фейербах (1804 – 1872 гг.), российские ученые А.Ф. Кистяковский (1833 – 1885 гг.), Н.С. Таганцев (1843 – 1923 гг.). Сущность данного научного подхода заключалась в следующей формуле: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него» [6, с. 184 – 185].
В длительный период исторического развития и генезиса научной мысли, начиная с трудов Платона и Аристотеля, в отношении противодействия преступности и ее профилактики преобладала концепция гипертрофированной генеральной превенции, а также – научная идея возмездия (концепция воздаяния), постулирующая о том, что возмездие – справедливая и единственно возможная реакция на преступление, получающая коррективы в зависимости от определенного уровня общественно-правового прогресса социума. Названная концепция получила отражение в трудах Г. Лейбница (1646 – 1716 гг.), Г. Гегеля (1770 – 1831 гг.), базируясь на фундаментальном принципе соразмерности санкций последствиям деяния, трансформируясь со временем в доктрины классической и неоклассической школ криминологии.
Особый вклад в развитие теории преступности и ее профилактики внесли русские и иностранные философы: А.Н. Радищев (1749 – 1802 гг.), Огюст Конт (1798 – 1857), А.И. Герцен (1812 – 1870 гг.), Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889 гг.). В рамках позитивистской научной теории посредством исследований итальянской, британской и американской антропологических научных школ (Ш. Глюк (1714 – 1787 гг.), Ч. Ломброзо (1836 – 1919 гг.), Э. Ферри (1856 – 1921 гг.) и другие) получили развитие направления биологического позитивизма и индивидоцентризма. В России представителями данной научной школы, включая антропологическое направление, выступили А.А. Герцензон (1902 – 1970 гг.), Н.С. Лейкина (1918-1996 гг.), В.А. Кудрявцев (1941 – 2000 гг.), А.А. Пионтковский (1940 г.) и другие, которые рассматривали явление преступности и меры по ее профилактике с позиции многоаспектных социальных явлений и процессов, а также – непосредственно – с учетом биологической человеческой природы.
Начиная с середины ХХ в., теоретическое толкование преступности и сферы ее профилактики реализованы в рамках криминологии, признанной полноценной отраслью национальной правовой системы, ставшей самостоятельной наукой, основным элементом предмета которой является профилактика преступности (М.В. Духовской (1849 – 1903). С.С. Остроумов (1909 – 1979 гг.), А.Б. Сахаров (1919 – 1997 гг.), А.А. Герцензон (1902 – 1970 гг.), Г.М. Миньковский (1923 – 1998 гг.)). В зарубежной криминологии многие представители (Д. Готтфредсон (1992 г.), А.Э. Лиска (1940 – 1998 гг.) и другие))1 под влиянием научных идей Просвещения (Ч. Бекариа, И. Бентам, Д. Говард, П. Фейербах и иных), отразив тенденции развития уголовного закона в направлении гуманизации, привнесли в теорию и в правоприменительную практику концепцию приоритета профилактики преступности над деянием, санкциями и репрессиями.
Современные позитивистские теории преступности и профилактики данного явления, начиная с указанного исторического периода, включают элементы интегративности, основанные на систематизации различных представлений о преступности, об обосновании ее детерминант, о профилактике, иных мерах по обеспечению контроля над преступностью. Основоположниками интегративной криминологической доктрины признаны Р.К. Мертон (1910 – 2003 гг.), Э.Х Сазерленд (1883 – 1950 гг.) (теория дифференциальной ассоциации (1939 г.)), Д. Глейзер (1926 – 2013 гг.) (теория дифференциальной идентификации (1956 г.)), Р. Айкерс (1939 г.) (теория социального научения (1966 г.)).
Структурные криминологические научные теории напряжения, отражающие непосредственное влияние на уровень преступности и систему мер профилактики данного явления как экономических, так и неэкономических институтов, в процессе модификации были дополнены явно выраженным субкультурным подходом (аналогично теории фрустрации статуса А. Коэна (1955)). С начала 90-х гг. XX в. в общей криминологической научной теории напряжения Р. Агнью учитывается интегративный эффект когнитивных, поведенческих, эмоциональных элементов адаптации индивидов к различным типам напряжения в социальной системе, представляющей собой целостное единство, в качестве главных сегментов которого признаны сам человек, его корреляция с другими индивидами, его многоаспектные отношения, связи.
Материалы и методы
В процессе написания статьи были использованы сравнительно-правовой, исторический, статистический методы, а также метод формальной логики.
Результаты исследования
На основании результатов анализа системы профилактики преступности необходимо признать: прогрессивные итоги исследований преступности в результате составили концепцию понимания особой роли в системе противодействия преступности именно явлений профилактики, а в конце 80-е гг. ХХ в. в качестве ведущей в мире признана научная идея о том, что полиция должна реализовывать полномочия в направлении правоохранительной и социальной деятельности, реализуя, наряду с традиционным карательным функционалом, важнейший функционал социальной направленности в форме помощи населению, привлекая его к решению задач правоохраны, как и реализации государственных программ в сфере профилактики преступности.
Ю.М. Антонян утверждает, что профилактика преступности выступает в качестве основного гуманистического направления государственной политики в сфере борьбы с преступностью, опосредованного прямым воздействием на многоаспектные криминогенные факторы, в т.ч. – на причины и условия, детерминирующие преступность, при котором, по общему правилу, отсутствует потребность в государственном принуждении, т.е. в уголовно-правовом воздействии на лиц, склонных к различным преступным проявлениям [7, с. 27].
Согласно позиции А.И. Долговой, профилактика преступлений – такая деятельность, которая имеет направленность на обнаружение, устранение или нейтрализацию причин, условий, способствующих преступности на всех уровнях, на их компенсацию причинами, условиями и нормативного, и правомерного поведения, в целом – на повышение уровня нормативности в обществе, в целом [8, с. 6].
В научном сообществе отражены и иные научные подходы, между тем в российской криминологической теории общепризнано: профилактика преступности возникает на личностно-микросредовом уровне, когда преступность как таковая отсутствует, однако находятся в действии факторы, направленные на возникновение причин и условий преступности: проявления агрессивной либо/и корыстной криминогенной мотивации, наличие личностных качеств, способных к реализации преступного поведения. Внешние причины преступности составляет совокупность таких фактов, как криминогенная ситуация (например, безнадзорность); формирование негативной для индивида микросреды (потеря работы, жилья). Профилактика преступлений на общесоциальном уровне – совокупность мер по устранению факторов, способствующих порождению преступности, ограничению сфер влияния преступных сообществ; на реализацию мер по снижению уровня преступности, т.е. ликвидацию детерминант и актуальных проблем преступности (экономических, политических, межнациональных, религиозных и т.п.); на устранение криминогенной направленности общества посредством вытеснения преступности общечеловеческими ценностями, искоренения агрессивной пропаганды, идей противозаконности в образовательном, информационном сегментах общества.
Представители криминологического научного сообщества многих зарубежных стран, исследуя профилактику преступности, рассматривают данное явление преимущественно в качестве совокупности и социальных, и психологических, и общественных, а также административно-, уголовно-правовых и других мер, направленных на ограничение и сдерживание общественно опасного воздействия определенных криминогенных факторов и обстоятельств на права, свободы и законные интересы граждан, на безопасность государства. При этом во всех правовых системах (семьях) общепризнано: меры профилактики должны иметь направленность как на систему безопасности (национальную, общественную), так и на непосредственно безопасность личности и потенциального преступника, и потенциальной жертвы, способствуя охранительному предупреждению деяний и целенаправленной превентивной работе с гражданами в сфере виктимологической профилактики.
Американский исследователь Р. Кларк, выступающий приверженцем ситуативного подхода в криминологии к пониманию категории «профилактика преступности», отражает концептуальные доводы в отношении осознания явления профилактики в контексте снижения активности преступных проявлений посредством как наблюдения, так и применения многоаспектных предварительных профилактических мер, включая технические средства, способствующих минимизации возможности совершения преступления [9, с. 117].
В Российской Федерации научные концепции о необходимости формирования национальной нормативной основы в сфере профилактики преступности как одного из наиболее эффективных способов борьбы с данным негативным социальным явлением [10, с. 279], разрабатываемые на протяжении длительного периода общественного развития, составили основу Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» профилактика правонарушений, классифицируемых, во-первых, на проступки (дисциплинарные, административные, гражданские (деликты)) и, во-вторых, на преступления, – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и пр. характера, направленных на выявление, устранение причин, условий, способствующих посягательству, на оказание воспитательного воздействия в целях недопущения правонарушений и иного антиобщественного поведения в будущем. При этом, наряду с видами профилактики преступности (ст. 15), классифицируемыми на общую и индивидуальную профилактику, законодатель предусматривает систему форм профилактического воздействия (ст. 17):
- правовое просвещение и правовое информирование;
- объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, недопустимости продолжения противоправного поведения;
- внесение представления об устранении причин и условий, способствующих деянию;
- социальная адаптация, а также – ресоциализация;
- социальная реабилитация;
- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
Обсуждение и заключение
Российские и зарубежные специалисты сформулировали вывод, согласно которому одним из наиболее эффективных концепций противодействия преступности признано ее криминологическое предупреждение в целом и профилактика в частности, благодаря которой на основе ее разнообразных средств возможно выявлять и устранять первоисточник противоправных проявлений, воздействуя на причинный комплекс преступности, нивелируя преступные проявления и устраняя их возникновение в перспективе.
Так, во Франции в целях реализации криминологической политики действует система органов профилактики преступности на национальном, региональном и местном уровнях. Так, особые полномочия по профилактике возложены на Национальный совет по предупреждению преступности, деятельность которого имеет направленность на формирование государственной политики в сфере предупреждения преступности. Систему органов профилактики преступности во Франции составляет также Совет муниципальных образований, который активно взаимодействуют и с Национальным советом по предупреждению преступности.
Особенности современных английских криминологических концепций по профилактике преступности базируются на социологических теориях, основа которых – научные идеи в области радикальности и функционализма. Так, в Великобритании систему государственных органов правоохраны, осуществляющих профессиональную деятельность по профилактике преступности, составляют подразделения, созданные на территории каждой из отдельных правовых систем Соединенного королевства: Англии и Уэльса, Северной Ирландии (Полиция Северной Ирландии) и Шотландии (Полиция Шотландии). Основная часть профилактических полномочий, в т. ч. по поддержанию правопорядка, возложена при этом на сотрудников «территориальных сил полиции», которые относятся к соответствующей национальной юрисдикции. Система органов, реализующих деятельность по профилактике преступности, включает также территориальные службы и специализированные подразделения отдельных территориальных полицейских сил (Управление специальных операций Службы столичной полиции и ряд других), правоохранительные агентства, Территориальные полицейские службы как основные силы полиции; британские правоохранительные агентства (в т.ч. Национальное криминальное агентство, Британская транспортная полиция (в Англии, Шотландии и в Уэльсе)), ряд других национальных полицейских служб.
В Соединенных Штатах Америки, относящихся к правовой системе общего права, история становления субъектов профилактики преступности свидетельствует: деятельность данных лиц основана на достижениях криминологии и правоприменительной практики в сфере противодействия преступности и реализуется посредством применения теорий, опосредованных достижениями, и рефлексивных, и психологических, и политико-правовых, социально-экономических и экологических, социально-климатических, иных концепций детерминант преступности и ее профилактики.
Между тем анализ фактического положения дел и национальных проблем в сфере преступности и ее профилактики в США, Великобритании обусловлены сложностями действующего общего права: отсутствием систематизированных норм права в отношении пределов действия уголовного закона; применяемыми на практике правовыми источниками уголовного права (в частности, в отношении профилактики преступности), обладающими нетождественной интерпретацией. Изложенное способствует различному толкованию соответствующих норм права американскими судами, как и формированию судебных прецедентов [11].
Китайская Народная Республика, как крупнейшее и успешно развивающееся государство мира с населением более 1,5 млрд человек, благодаря системе субъектов профилактики преступности, в соответствии с международными стандартами безопасности, добилось значительных успехов в сфере борьбы с преступностью, занимая в 2021 г. в рейтинге наиболее безопасных государств мира 30-е место (1 место – Катар, 9 – Япония, 42 – Германия, 52 – Россия, 71 – Великобритания, 80 – США, 89 –Франция, 97 – Казахстан, 114 – Беларусь)2.
Профилактика преступности, реализуемая системой государственных органов, включая правоохранительные органы Китая (органы полиции, прокуратуры, следствия, адвокатуры, судебного и административно-правового управления, пенитенциарной системы [12 с. 94]), как и институтами гражданского общества, признана одним из основных направлений государственной внутренней политики, от успешности реализации которой находятся в зависимости перспективы развития страны, социально-экономический генезис общества. Основным субъектом профилактики преступности выступают правоохранительные органы полиции, реализующие свою профессиональную деятельность в соответствии с законом КНР «О народной полиции»3.
Представляется, что успешность Китая в отношении профилактики преступных проявлений на современном этапе обусловлена особенностями национальной правовой системы, которая признана в качестве уникального правового явления, включающего принципы и нормы международного права и сформированные веками конфуцианские ценности, а также – характерные нормы древнекитайского права, традиционные черты права государства романо-германской правовой системы (семьи), в целом, и ее разновидности – системы социалистического права.
Наиболее эффективной из иностранных национальных моделей профилактики преступности признана японская модель. Данная модель включает постоянно совершенствующуюся общесоциальную систему в сфере борьбы с преступностью, консолидирующую большинство сфер социальной жизни японцев; специально-криминологическую систему предупреждения, объединяющую комплекс мероприятий, реализуемых системой субъектов профилактики преступности; многоуровневую систему, действующую в сфере институционального контроля (государственный, местный, неформальный); систему ранней профилактики, включая рецидивы.
Успешная криминологическая японская политика – пример эффективного противодействия преступности, демонстрирующая постулат: профилактика преступности – наиболее эффективное средство борьбы с данным явлением [13. с. 563].
Профилактика преступности не может быть реализована хаотично, в связи с этим во всех современных государствах сформирована структурированная иерархичная система профилактики, в состав которой входят: объект (негативные явления и процессы, детерминирующие преступность), предмет (личность, характеризующаяся девиантным, делинквентным, иным антиобщественным поведением, обуславливающим преступность, группа лиц с подобными проявлениями; жертва преступления; лицо, освободившееся из учреждения исполнительной системы, семья и другие); субъект профилактики (государственные, негосударственные лица), реализующие неоднородные по механизму воздействия меры профилактического характера.
1. David R., Zhoffre-Spinozi K. Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2017. S. 453.
2. Novikov P.D. Romano-germanskaya pravovaya sem'ya v kontekste dinamiki istoricheskogo razvitiya i harakternyh priznakov // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2021. № 7. S. 125 – 131. DOI: https://doi.org/10.24412/2500-1000-2021-5-4-125-131; EDN: https://elibrary.ru/BOSSQI
3. Klejmenov M.P., Kondrat'ev A.V., Sejbol E.M. Profilaktika pravonarushenij: istoricheskij ocherk // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Pravo». 2020. T. 17. № 1. S. 108 – 119. DOI: https://doi.org/10.24147/1990-5173.2020.17(1).108-119; EDN: https://elibrary.ru/RNVJAU
4. Gegel' G.V.F. Filosofiya prava. Moskva, 1990. S. 542.
5. Sterpu V. Problema izucheniya zarubezhnogo opyta po preduprezhdeniyu prestuplenij i ego ispol'zovanie v deyatel'nosti organov vnutrennih del // Zakon i zhizn'. 2021. № 3. S. 56 – 58.
6. Burlakov V.N. Kriminologiya. Sankt-Peterburg, 2002. S. 422. EDN: https://elibrary.ru/TWLAIT
7. Antonyan Yu.M. Kriminologiya. 3-e izd. Moskva: Yurajt, 2024. S. 388.
8. Dolgova A.I. Kriminologiya. Moskva: Norma, 2017. S. 1008.
9. Klark R. Prestupnost' v SShA. Zamechaniya po povodu ee prirody, prichin, preduprezhdeniya i kontrolya. Moskva: Progress, 1975. S. 422.
10. Novickij A.A. Profilaktika prestuplenij v Rossijskoj Federacii // Voprosy studencheskoj nauki. 2020. № 11 (51). S. 276 – 279. EDN: https://elibrary.ru/YIZNMJ
11. Komarov A.A. Britanskoe ugolovnoe pravo: o probleme yurisdikcii transnacional'nyh komp'yuternyh prestuplenij // Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. 2016. № 8. URL: http://human.snauka.ru/2016/08 EDN: https://elibrary.ru/WMGGFN
12. Mishchakova N.V. Sravnitel'nyj analiz organizacii deyatel'nosti pravoohranitel'nyh organov Kitajskoj Narodnoj Respubliki i Rossijskoj Federacii // Yuridicheskaya nauka v Kitae i Rossii. 2021. № 4. S. 93 – 95. DOI: https://doi.org/10.17803/2587-9723.2021.4.093-095; EDN: https://elibrary.ru/GXTBJS
13. Kobec P.N. Kompleksnoe kriminologicheskoe issledovanie osobennostej preduprezhdeniya prestupnosti v sovremennoj Yaponii // Russian Journal of Economics and Law. 2021. T. 15. № 3. S. 556 – 572. DOI: https://doi.org/10.21202/2782-2923.2021.3.556-572; EDN: https://elibrary.ru/FQGCNP