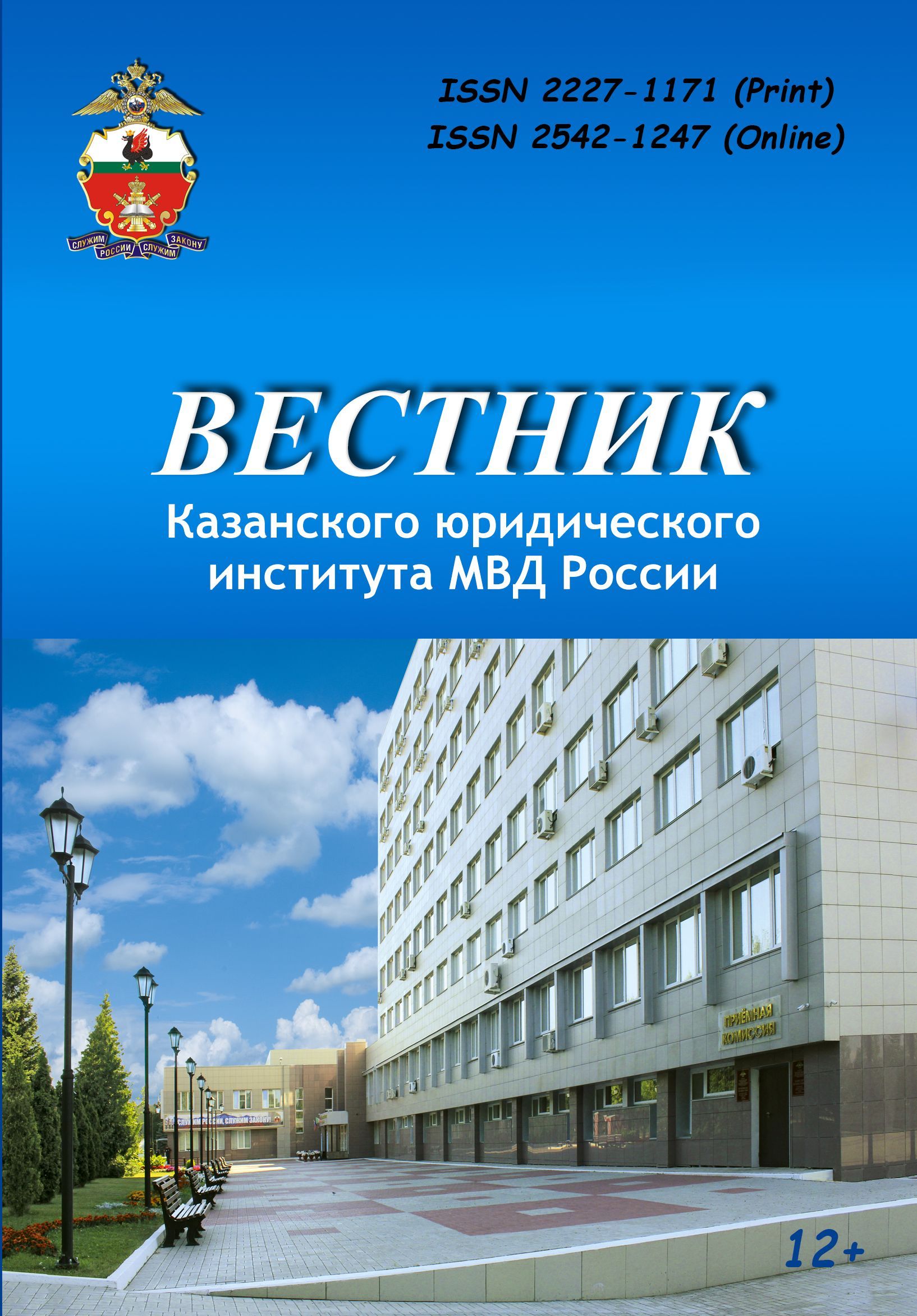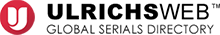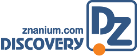from 01.01.2013 until now
Kazan', Russian Federation
Naberezhnye Chelny, Russian Federation
UDC 343
Introduction: the article investigates the legal nature and specificity of the General Part of the Russian criminal law in inseparable interrelation with its Special Part. Materials and Methods: the methodological basis of the article was the universal method of dialectical cognition in the study of the essence of the General Part of criminal law, its relationship with its Special Part. In the course of solving certain tasks in the work the authors used general scientific research methods, in particular, comparative-legal, system-structural, and also used analysis as a specific scientific method of cognition. Results: in order to reveal the legal nature of the General Part of Criminal Law the regularities of its formation were determined. The principles of allocation in the structure of criminal law of its General and Special parts were substantiated. The criminal-legal significance of allocation and isolation of the General Part as a structural element of criminal law, which should be regarded as a phenomenal achievement in legal technique, has been revealed. In the course of the study the features of interaction and interdependence of the norms of the General Part of criminal law with the provisions of its Special Part were revealed. The study of these issues allowed the best way to identify the specificity of the General Part of criminal law. Discussion and Conclusions: the conducted research allowed to identify the fundamental beginnings of the formation of the General Part of criminal law in isolation from its Special part and to justify that the natural development of the structure of criminal law is the result of the manifestation of the pandect principle of construction of codified criminal legislation. The key criminal-legal significance of the General Part of criminal law as the foundation on which its Special Part is built and formed is revealed and substantiated. The analysis of the considered issues confirms the conclusion that the most important characteristic of the General Part is that it is an expression of the specificity of the branch of criminal law. The study of the analyzed problems allows to determine the points of contact between the General and Special parts of criminal law and the mechanism of implementation of their norms by the law enforcer.
formation; approach; part; system; lawful connection; principle; structural element; institution; criminal law; codification; generalization; interrelation; isolation; method of legal regulation
Введение
В уголовно-правовой литературе вопрос определения системы уголовного права является довольно дискуссионным. Вместе с тем взгляды некоторых ученых не в полной мере соответствуют положениям общей теории права. С учетом различных точек зрения в теории уголовного права для выявления сущности его структурных элементов необходимо уточнить понятие системы уголовного права.
В целях определения характерных особенностей формирования Общей части уголовного права, установления закономерных связей с его Особенной частью необходимо определить основополагающие начала структурирования системы уголовного права, в частности Общей его части, что позволит выделить важнейшие ее характеристики как возможности выражения специфики отрасли уголовного права.
Соотношение структурных элементов системы уголовного права позволяет обнаружить метод уголовно-правового регулирования и определить механизм реализации правоприменителем норм Особенной части уголовного права при неразрывной взаимосвязи с его Общей частью. Данный подход позволяет предположить аксиоматичный характер норм Общей части уголовного права по отношению к положениям его Особенной части и выявить точки их пересечения.
Обзор литературы
Проблемам уголовно-правового осмысления основополагающих начал, сущности и содержания Общей части уголовного права, ее формирования и развития, а также обособления и соотношения с Особенной его частью и специфики их взаимосвязи посвящены научные работы Ф.Р. Сундурова, А.И. Чучаева, В.П. Коняхина, Ю.Е. Пудовочкина, В.П. Разгильдиева, А.И. Рарога, Л.В. Иногамовой-Хегай, Б.В. Яцеленко, М.С. Жука, А.В. Наумова, В.Н. Кудрявцева, Р.Г. Асланяна, Б.В. Волженкина, А.И. Санталова, В.М. Когана, Н.А. Лопашенко, П.Н. Панченко, И.П. Корякина, Э.С. Тенчова, Т.В. Кленовой, Н.Ф. Кузнецовой.
Результаты исследования
Система отрасли права как таковой представляет собой ее внутреннее строение, структуру и взаимосвязь образующих ее элементов [1, с. 221]. Образно выражаясь, ее признают воплощением «правовой архитектуры; он (общий план кодекса – прим. А.И.) знаменует желание выставить на всеобщее обозрение основные элементы, вокруг которых будет строиться соответствующая область права» [2, с. 362].
Система уголовного права как одной из отраслей права, казалось бы, должна в целом определяться также. Однако в уголовно-правовой науке до сих пор не сложилось единого мнения о ней, несмотря то, что это понятие активно используется как в научной, так и в учебной литературе [3, с. 27-39]. Например, Б.Т. Разгильдиев определяет систему уголовного права как основанную на едином предмете и методе совокупность норм и положений, характеризующихся взаимной связью, и служащую для образования самостоятельной уголовно-правовой отрасли в правовой системе российского общества и государства, для решения в этом качестве задач, стоящих перед ней, в соответствии с уголовно-правовыми принципами [4, с. 336]. Не ставя цель анализа предложенного подхода к трактовке системы уголовного права в целом, обратим внимание на три детали. Во-первых, на наш взгляд, излишним является указание на задачи, стоящие перед уголовным правом; «для чего» отнюдь не означает, что определяемое явление представляет собой. Во-вторых, уголовно-правовым принципам отводится роль «сопровождения» решаемых уголовным правом задач, тем самым искажается их суть и значение как основополагающих идей1 [5, с. 261]. В-третьих, в основу деления уголовного права на структурные части автор кладет предмет и метод правового регулирования; по сути, то, что отличает одну отрасль права от другой.
Такой подход не только не находит поддержки в литературе, но и подвергается обоснованной критике. Так, Ю.Е. Пудовочкин исходит из того, что система уголовного права основана не на его предмете и методе, а на отраслевых принципах [6, с. 76]. Подобное представление о критериях структурирования уголовного права соответствует положениям общей теории права. По мнению ее представителей, сущность права вообще и уголовного права в частности в концентрированном виде наиболее рельефно находит отражение в принципах, которые представляют собой «исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни» [5, с. 98].
Именно о закономерностях должна идти речь, когда характеризуется общая часть уголовного права2 [7, с. 17; 8, с. 37; 9; 10, с. 47]. Д.А. Керимов отмечал, что «в реальной правовой действительности объективно существуют такие специфические закономерности развития правовых явлений, такие существенные их связи и отношения, которые присущи всем явлениям данного рода и без познания которых невозможно более или менее глубокое изучение предмета отраслевых наук. Открытие в каждом отдельном случае общей закономерности, тенденции развития правовых явлений дает возможность обнаружить конкретную цепь их движения» [11, с. 21].
Подобная «цепь движения» наглядно проявляется при оценке Общей части как закономерно обособившегося элемента уголовного права. «Выделение Общей части в качестве структурного элемента уголовного законодательства, – пишут В.К. Андрианов и Ю.Е. Пудовочкин, – явилось колоссальным достижением в области юридической техники. Оно позволило законодателю выразить многое в немногом, вынести “за скобки” общие, руководящие, принципиальные положения уголовного права и тем самым сделать кодифицированный уголовный закон компактным по форме, доступным по содержанию и удобным для применения. Отсюда вполне закономерно, что Общая часть впоследствии стала неизменным атрибутом кодифицированного уголовного законодательства России и, в том или ином виде, всех других стран»3 [12, с. 257-258; 13, с. 95; 14, с. 16].
По мнению В.П. Коняхина, структурное обособление Общей части уголовного закона основывается на трех теоретических источниках: немецкой пандектистике, просветительно-гуманистическом и классическом направлениях в науке уголовного права [15, с. 253].
Таким образом, следует констатировать: формирование Общей части, ее обособление от Особенной части есть закономерное развитие структуры уголовного права, проявление пандектного принципа4 построения кодифицированного законодательства вообще и уголовного законодательства в частности. В более ранних наших трудах мы обращались к пандектному принципу построения уголовного законодательства, однако нами исследовался генезис и развитие Особенной его части [16, с. 69]. Нормы Общей части, по образному выражению С.С. Алексеева, образуя обобщенные предписания, выполняют функцию «цементирующего средства» в структуре права [5, с. 72]. Помимо интегративных частиц, Общая часть содержит предписания-метачастицы, к которым в литературе относят аксиомы, принципы, дефиниции и презумпции [17, с. 231].
Не умаляя значения Общей части в обеспечении стройности и экономии в изложении правового материала, следует отметить то главное, что ее характеризует, – она представляет собой выражение специфики отрасли уголовного права.
В литературе признается аксиоматичным положение, согласно которому «каждой отрасли присущ свой особый метод правового регулирования, специфические черты которого концентрированно выражены в правовом положении (статусе) субъектов, а также в основаниях функционирования правоотношений, способах определения их содержания, в юридических санкциях» [5, с. 295]. Общая часть уголовного права для его Особенной части выступает основанием, на которое опираются нормы последней.
Отмеченное соотношение указанных структурных элементов обнаруживает метод уголовно-правового регулирования. Как утверждает В.М. Коган, все содержание Общей части выступает как специфический метод уголовно-правового регулирования. Каждое отдельное положение можно рассматривать в качестве элемента этого метода [18, с. 64; 19]. Разумеется, не все элементы метода регулирования воплощаются в положениях Особенной части одним и тем же способом. Например, они могут быть отражены наглядно, явно, т.е. таким образом, что их обнаружение и фиксация не составляет особого труда. Так, в частности, нашли отражение понятия «преступления», «система», «виды наказаний» и другие положения Общей части. В других же нормах Особенной части уголовного права установления Общей части либо вообще не отражены, а лишь подразумеваются либо отражены неявно, выявление их содержания требует системного толкования. Например, в Особенной части не указаны действие уголовного закона во времени, субъект преступления (если он не специальный) и т.д. «Однако, – писал А.И. Санталов, – из того факта, что в подавляющем большинстве составов преступлений признаки, характеризующие субъекта, не указаны, никто не делает вывода о составах преступлений без субъекта или без признаков, характеризующих субъекта. Эти признаки состава даны в Общей части и поэтому относятся ко всем составам Особенной части, где о них ничего не сказано. От этого они не перестают быть признаками конкретных преступлений, их составными частями» [20, с. 102]. В ряде случаев законодатель как бы делит одну норму на две составляющие, первую из которых отражает в Общей части, а вторую – в Особенной части (логическая норма). По такому принципу сформулированы относительно-определенные санкции некоторых норм, построенных по типу «... до», когда нижний предел наказания закрепляется в норме Общей части, характеризующей данный его вид.
Таким образом, правоприменитель, реализуя норму Особенной части уголовного права, в то же время применяет его Общую часть.
Общая часть в уголовном праве выполняет функцию аксиом, хотя и не в полном объеме. В связи с этим можно утверждать, что положения Особенной части имеют характер теорем. Например, грабеж указан в Особенной части в качестве уголовно наказуемого деяния, он тем самым удовлетворяет аксиоме преступления, сформулированной в ст. 14 УК РФ. Но свое непосредственное содержание, объективизированное вовне, грабеж находит не в аксиоме о преступлении, а в самой действительности. По сути, это же присуще и другим видам преступлений, отраженным в качестве таковых в Особенной части (убийство, изнасилование, государственная измена и т.д.).
Согласно бесспорному утверждению, Общая часть состоит из институтов уголовного права5 [13, с. 253; 21, с. 152; 22, с. 62], однако по поводу количество последних в литературе далеко до единства. Так, Н.Ф. Кузнецова считала, что содержание всего уголовного права охватывает четыре института6 [13, с. 95]: «уголовный закон», «преступление», «наказание» и «освобождение от уголовной ответственности и наказания». Они систематизированы в структурных частях уголовного кодекса и делятся на более дробные институты Общей и Особенной частей уголовного права [23, с. 3].
В этом высказывании представляется сомнительным деление институтов уголовного права на «дробные институты»; другими словами, институты распадаются на институты, отличающиеся между собой кругом регулируемых общественных отношений. На наш взгляд, это противоречит как логике деления целого на части, так и сущности уголовно-правового института. Под последним понимается «внешне оформленный структурный элемент отрасли уголовного права, представляющий собой основанную на собственной идейной платформе и подчиненную принципам и задачам отрасли систему уголовно-правовых норм, призванных целостно и беспробельно регулировать часть ... отношений, отличающихся спецификой порождающего их юридического факта»7[13, с. 93; 24, с. 195; 25, с. 61; 26, с. 20].
Деление понятия – особая логическая операция, посредством которой объем делимого понятия распределяется по объемам новых понятий8. В предложенной Н.Ф. Кузнецовой варианте структуры уголовного права последние не называются, а указываются те же понятия с видоизменным объемом. Между тем члены деления должны исключать друг друга.
М.С. Жук характеристику Общей части уголовного права ограничивает институтами преступления и уголовной ответственности, признавая их центральными категориями отрасли. К первой из них он относит: институт понятия и категорий преступления, охватывающий субинститут обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния9 [27, с. 86; 28, с. 51]; институт лиц, подлежащих уголовной ответственности; институт вины, содержащий субинститут обстоятельств, исключающих виновность10 [29, с. 346]; институт неоконченного преступления; институт множественности преступлений; институт соучастия в преступлении. Категория уголовной ответственности охватывает институт понятия и целей уголовной ответственности11; институт освобождения от уголовной ответственности; институт понятия и видов наказания; институт назначения наказания; институт освобождения от отбывания наказания12; институт конфискации имущества и правил ее назначения; институт принудительных мер медицинского характера и правил их назначения; институт судимости [14, с. 15-16]. Институты пределов действия уголовного закона и уголовной ответственности несовершеннолетних М.С. Жук не включает ни в одну из выделенных им центральных категорий отрасли, поэтому достаточно сложно понять, в каком соотношении они находятся.
Использование автором полисемантичного понятия «категория (центральная категория) отрасли» представляется недостаточно обоснованным, в том числе в качестве критерия деления институтов уголовного права на две составные части. Как известно, категория в философии (в наиболее приемлемом варианте для права вообще и уголовного права в частности) означает предельно общее понятие, выражающее наиболее существенные отношения действительности13. Вряд ли это приложимо к совокупности выделяемых М.С. Жуком институтов. В связи с этим, как нам представляется, в приведенном контексте словосочетание «категория отрасли» не имеет собственного содержания, выступает фигурой речи – и не более того. К тому же, центральные категории предполагают наличие периферийных или каких-то иных уголовно-правовых категорий, о которых автор не упоминает.
По мнению Ф.Р. Сундурова, систему уголовного права в целом определяют пять генеральных институтов: уголовный закон; преступление, обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание и освобождение от уголовной ответственности. Их содержание составляют нормы как общей, так и особенной частей [30, с. 33].
Несмотря на имеющиеся различия в количестве и видах уголовно-правовых институтов, авторы, как нам представляется, едины в главном: система уголовного права – это не набор и даже не простая совокупность уголовно-правовых норм, а система упорядоченных институтов, находящихся между собой в определенной взаимосвязи и взаимозависимости.
Обсуждение и заключение
Проведенное исследование подтвердило следующие выводы:
- Общая часть в уголовном праве в целом выполняет функцию аксиом. В связи с этим положения Особенной части имеют характер теорем;
- формирование Общей части уголовного права, ее обособление от Особенной его части есть закономерное развитие структуры уголовного права, проявление пандектного принципа построения кодифицированного уголовного законодательства;
- главное, что характеризует Общую часть уголовного права, – она представляет собой выражение специфики отрасли уголовного права;
- систему уголовного права следует рассматривать как систему упорядоченных институтов, находящихся между собой в определенной взаимосвязи и взаимозависимости;
- Общая часть уголовного права имеет ряд точек соприкосновения с его Особенной частью. Обобщенно их можно представить в следующем виде:
1) нормы указанных частей уголовного права сформированы и применяются на основе единых принципов;
2) нормы Общей части содержат условия реализации норм Особенной части (имеет место «правило скобок»; правовые установления общей части относятся ко всем нормам Особенной части, выполняя функцию их гипотезы);
3) нормы Общей и Особенной частей, являясь структурными элементами единой системы, применяются одновременно; реализация нормы Особенной части требует обращения к норме Общей части и наоборот;
4) указанные нормы направлены на решение единых задач, сформулированных в ст. 2 УК РФ.
1. Lazarev V.V., Lipen' S.V. Teoriya gosudarstva i prava. Moskva: Yurajt, 2011. 634 s. EDN: https://elibrary.ru/VTSTYN
2. Kabriyak R. Kodifikacii / per. s franc. i vstup. stat'ya L.V. Golovko. Moskva: Status, 2007. 476 s. EDN: https://elibrary.ru/QXFXNT
3. Denisova A.V. Ugolovnoe pravo v pravovoj sisteme Rossijskoj Federacii. Moskva: Prospekt, 2022. 77 s. EDN: https://elibrary.ru/HGWMDB
4. Razgil'diev B.T. Sistema ugolovnogo prava Rossii: ponyatie, naznachenie // Sistemnost' v ugolovnom prave: materialy II Rossijskogo kongressa ugolovnogo prava. Moskva: Prospekt, 2007. S. 335-338.
5. Alekseev S.S. Obshchaya teoriya prava. Kurs v 2-h t. T. 2. Moskva: Yuridicheskaya literatura, 1982. 360 s.
6. Pudovochkin Yu.E. Uchenie ob osnovah ugolovnogo prava. Moskva: Yurlitinform, 2012. 237 s. EDN: https://elibrary.ru/QSNSJP
7. Ugolovnoe pravo Rossijskoj Federacii. Obshchaya chast' / pod red. L.V. Inogamovoj-Hegaj, A.I. Raroga, A.I. Chuchaeva. Moskva: INFRA-M: KONTRAKT, 2005. 553 s.
8. Naumov A.V. Rossijskoe ugolovnoe pravo: kurs lekcij v 3 t. T. 1: Obshchaya chast', 2011. 742 s.
9. Panchenko P.N. Gosudarstvenno-pravovye zakonomernosti v istorii i teorii gosudarstva i prava i ugolovnoe pravo: monografiya. Moskva: Yurisprudenciya, 2014. 520 s.
10. Syryh V.M. Logicheskie osnovaniya obshchej teorii prava. V 2 t. T. 1: Elementnyj sostav. Moskva: Yusticinform, 2001. 527 s.
11. Kerimov D.A. Dialekticheskij put' poznaniya prava // Metodologicheskie problemy sovetskoj yuridicheskoj nauki. Moskva: Nauka, 1980. S. 11 – 38.
12. Andrianov V.K., Pudovochkin Yu.E. Zakonomernosti ugolovnogo prava. Moskva: Yurlitinform, 2019. 342 s. EDN: https://elibrary.ru/YPWHZZ
13. Zhuk M.S. Instituty rossijskogo ugolovnogo prava: istoriya razvitiya i sovremennoe ponimanie: monografiya. Krasnodar: Prosveshchenie-Yug, 2010. 166 s. EDN: https://elibrary.ru/QSBBMB
14. Zhuk M.S. Instituty rossijskogo ugolovnogo prava: ponyatie, sistema i perspektivy razvitiya: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk: 12.00.08. Krasnodar, 2013. 62 s. EDN: https://elibrary.ru/ZOVNPV
15. Konyahin V.P. Teoreticheskie osnovy postroeniya obshchej chasti rossijskogo ugolovnogo prava. Sankt-Peterburg: Yuridicheskij centr Press, 2002. 346 s. EDN: https://elibrary.ru/EVFVUX
16. Ilidzhev A.A. Osobennaya chast' ugolovnogo prava kak otrazhenie ugolovnoj politiki Rossijskogo gosudarstva // Vestnik KYuI MVD Rossii. 2023. №1 (51). S. 67 – 74. DOI: https://doi.org/10.37973/KUI.2023.36.32.009; EDN: https://elibrary.ru/SNNKKU
17. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast' / pod red. N.M. Kropacheva, B.V. Vozhenkina, V.V. Orekhova. Sankt-Peterburg: S.-Peterb. gos. un-t, Yurid. fakul'tet S.-Peterb. gos. un-ta, 2006. 1064 s.
18. Kogan V.M. Social'nyj mekhanizm ugolovno-pravovogo vozdejstviya. Moskva: Nauka, 1983. 183 s.
19. Kazimirchuk V.P. Social'nyj mekhanizm dejstviya prava // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. Moskva: Nauka, 1970. № 10. S. 37 – 44.
20. Santalov A.I. Sostav prestupleniya i nekotorye voprosy obshchej chasti ugolovnogo prava // Pravovedenie. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1960. № 1. S. 98 – 104.
21. Koryakin I.P. Otrasli prava i institut prava: aksiologiya civilitarnogo prava // Vestnik Karagandinskogo instituta MVD Respubliki Kazahstan. 2004. Vyp. 2 (10). S. 152 – 156.
22. Tenchov E.S. Instituty ugolovnogo prava: sistema i vzaimosvyaz' // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. Moskva: Nauka, 1986. № 8. S. 60 – 66.
23. Kurs ugolovnogo prava: v 5 t. Obshchaya chast' T. 1: Uchenie o prestuplenii / pod red. N.F. Kuznecovoj, I.M. Tyazhkovoj. Moskva: Zercalo-M, 2002. 612 s.
24. Klenova T.V. Osnovy teorii kodifikacii ugolovno-pravovyh norm: dis. …d-ra yurid. nauk: 12.00.08. Samara, 2001. 387 s. EDN: https://elibrary.ru/XDVMHD
25. Lopashenko N.A. Osnovy ugolovno-pravovogo vozdejstviya: ugolovnoe pravo, ugolovnyj zakon, ugolovno-pravovaya politika. Sankt-Peterburg: Yuridicheskij centr Press, 2004. 337 s. EDN: https://elibrary.ru/PEGBUR
26. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast' / pod red. F.R. Sundurova. Kazan': Kazansk. un-t, 2003. 648 s.
27. Kirimova E.A. Pravovoj institut: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.01. Saratov, 1998. 170 s. EDN: https://elibrary.ru/NLKYPV
28. Orekhov I.V. Ponyatie i priznaki subinstituta prava: nastoyashchee i budushchee // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Pravo». 2016. № 3 (48). S. 51 – 55. EDN: https://elibrary.ru/WMWDTV
29. Valujskov N.V, Bondarenko L.V., Arutyunyan A.D. Ponyatie viny i vinovnosti v ugolovnom prave // Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. 2017. T. 6. № 3 (20). S. 345 – 347. EDN: https://elibrary.ru/ZOWBNT
30. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast' / pod red. F.R. Sundurova, I.A. Tarhanova. Moskva: Status, 2016. 864 s.