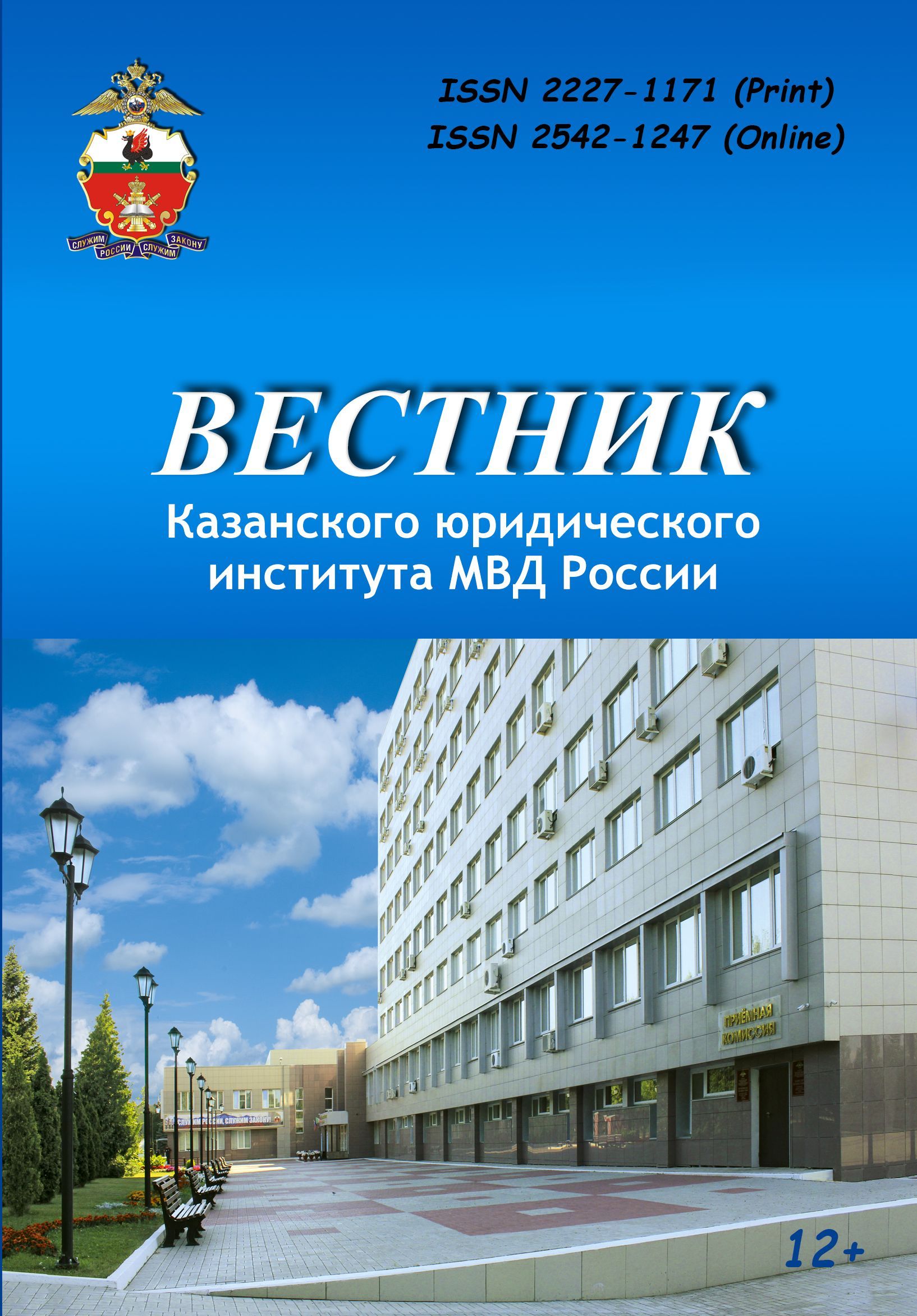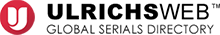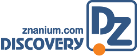graduate student
UDC 340
Introduction: the article presents the findings of a comparative legal study of foreign criminal legislation on liability for the dissemination of deliberately false socially significant information. In particular, the criminal laws of neighbouring countries in this area are considered. Materials and Methods: the present study was conducted using a combination of methods, including the dialectical method of scientific cognition, as well as comparative-legal, systemic-structural and formal-logical approaches. The empirical basis of the study comprised the criminal legislation of the Russian Federation and neighbouring countries, as well as scientific works by Russian scientists on the subject of the study. Results: the article presents an examination of legislative models of norms on liability for the dissemination of deliberately false, socially significant information in the criminal codes of neighbouring countries. Discussion and Conclusions: the author has established that criminal liability for knowingly false reporting of an act of terrorism is enshrined in all criminal laws of neighbouring countries. Other manifestations of the dissemination of deliberately false socially significant information are only partially criminalised. Very extensive criminal law prohibitions in this area are provided for in the Criminal Codes of the Republic of Belarus and the Republic of Uzbekistan.
crime; criminal liability; false information; dissemination of information; foreign legislation; public importance; terrorism
Введение
Одним из актуальных направлений модернизации отечественного уголовного законодательства в современных условиях являются вопросы уголовно-правового противодействия распространению заведомо ложной общественно значимой информации. Традиционно под запретом находилось заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Но в настоящее время круг криминализованных деяний в этой сфере уже значительно более широкий, поскольку уголовная ответственность теперь наступает за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 2071 УК РФ), публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия (ст. 2072 УК РФ), публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами РФ своих полномочий (ст. 2073 УК РФ) [1, с. 35-40].
Исходя из этого возникает вопрос о наличии подобных тенденций в зарубежных странах, а в рамках статьи предлагается к рассмотрению уголовное законодательство государств ближнего зарубежья.
Обзор литературы
Проблемы уголовной ответственности за распространение заведомо ложной общественно значимой информации рассматривались в работах М.М. Бабаева (2023), М.В. Бавсуна (2022), Е.А. Капитоновой (2024), С.Л. Нуделя (2023), С.А. Пичугина (2023), Ю.Е. Пудовочкина (2023), Ю.И. Совик (2023), А.И. Терских (2022), С.В. Шевелевой (2024).
Материалы и методы
В целях рассмотрения уголовно-правовых аспектов зарубежного уголовного законодательства об ответственности за распространение заведомо ложной общественно значимой информации наряду с диалектическим методом научного познания применялись такие методы, как сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-логический. Эмпирическую базу исследования составили уголовное законодательство Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, научные труды российских ученых по теме исследования.
Результаты исследования
В первую очередь необходимо отметить, что наличие уголовно-правового запрета заведомо ложного сообщения об акте терроризма является прочно устоявшейся нормой [2, с. 23]. Так, ответственность за данное деяние в Уголовном кодексе Кыргызской Республики (далее – УК КР) установлена ст. 259. Эта норма имеет простой описательный характер, деяние описано следующим образом: «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда»1.
Аналог отечественной нормы об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) именуется «Заведомо ложное сообщение об опасности». Ответственность, согласно ч. 1 ст. 340 данного закона, наступает за «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий»2. В качестве квалифицированного вида состава заведомо ложного сообщения об опасности предусмотрено его совершение «повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия»3.
Подобные нормы предусмотрены в большинстве уголовных кодексов государств ближнего зарубежья: ст. 180 Уголовного кодекса Республики Таджикистан4, ст. 216 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики5, ст. 281 Уголовного кодекса Республики Молдова6, ст. 299 Уголовного кодекса Туркменистана7.
Научный интерес представляет предписание, закрепленное в ст. 244.6 «Распространение ложной информации» Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее – УК РУ). В ч. 1 данной статьи регламентирована ответственность за «распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия»8.
В ч. 2 этой же статьи под запрет поставлено «распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, в сетях телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 244.1 настоящего Кодекса, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия»9.
Распространение заведомо ложной общественно значимой информации имеет некоторые общие черты с клеветой, поскольку в обоих случаях подразумевается передача другим лицам недостоверных сведений. Именно поэтому узбекский законодатель объединил в рамках одной статьи предписания об ответственности за распространение ложной информации о конкретной личности, а также о таком распространении, которое создает угрозу общественной безопасности и общественному порядку.
Представляется, что такой подход выражает весьма рациональное решение, включающее идеи систематизации и упорядочивания родственных уголовно-правовых запретов.
В качестве квалифицирующих признаков в ст. 244.6 УК РУ предусмотрено совершение деяния: «а) повторно или опасным рецидивистом; б) с причинением крупного ущерба». Особо квалифицирующими признаками признаны случаи совершения таких общественно опасных деяний: «а) во время массовых мероприятий или в случае возникновения чрезвычайной ситуации; б) с причинением особо крупного ущерба или повлекшие другие тяжкие последствия; в) организованной группой или в ее интересах»10.
Следует отметить, что такая совокупность обстоятельств, отягчающих ответственность, проявляет определенные недостатки законодательного подхода, объединяющего запрет на распространение информации о личности и информации, угрожающей общественной безопасности и общественному порядку. В частности, очевидно, что отдельные квалифицирующие признаки относимы лишь к одному из деяний, предусмотренных ст. 244.6 УК РУ. Например, вряд ли будет влиять на степень ответственности за клевету тот факт, что виновный совершил деяние во время массовых мероприятий.
В рамках самостоятельной нормы уголовного закона Республики Узбекистан предусмотрена ответственность за «распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций» (ст. 244.5). При этом распространение данных сведений «в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации, а также всемирной информационной сети Интернет» влечет повышенную ответственность11.
Как следует, изложенная норма представляет собой частный случай распространения информации, представляющей угрозу общественной безопасности и общественному порядку (ст. 244.6 УК РУ). Появление такой нормы, как представляется, обусловлено современными явлениями в виде пандемии, в ходе которых муссируются различные слухи, догадки и предположения, нередко порождающие панические настроения в обществе.
В белорусском уголовном законодательстве под запрет поставлена дискредитация Республики Беларусь, под которой понимается «распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам»12 (ст. 369.1).
В сопоставлении с отечественными предписаниями об ответственности за распространение ложной общественно значимой информации, предусмотренными ст. 2071 и 2072 УК РФ, соответствующее предписание уголовного закона Республики Беларусь является более объемным по своему содержанию. Во-первых, в нем речь ведется не только об обстоятельствах, создающих угрозу жизни или здоровью граждан, и, во-вторых, для наступления уголовной ответственности не требуется фактического наступления каких-либо последствий, как это необходимо для квалификации по ст. 2072 УК РФ.
В то же время данный объемный запрет по УК РБ охватывает и действия в виде публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий (аналог ст. 2073 УК РФ) [3, с. 41-45]. На наш взгляд, соответствующие действия подпадают под формулировку о дискредитации деятельности государственных органов. В российском уголовном законе лишь уточняется, что речь ведется об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Примечательно, что в УК РБ установлена ответственность за распространение ложной информации о товарах и услугах. В соответствии с ч. 1 ст. 250 УК РБ наказывается «распространение заведомо ложной информации либо применение рекламы, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества, количества, состава, способа изготовления и иных характеристик продукции (товаров, работ, услуг)». В качестве квалифицированного вида данного преступления закреплено его совершение «в отношении продукции (товаров, работ, услуг), могущей причинить вред здоровью потребителей»13.
С одной стороны, данный уголовно-правовой запрет имеет сходство с ранее действовавшим отечественным предписанием об уголовной ответственности за незаконную рекламу. Но с другой стороны, в ст. 250 УК РБ прямо указывается, что ответственность по этой норме наступает не только в случае распространения ложной рекламы, но и в ситуациях распространения иной ложной информации относительно какой-либо продукции или услугах. То есть, помимо собственно рекламы, преподносящей положительные характеристики продукции, данной нормой предусматриваются и деяния, состоящие в дискредитации соответствующих предметов.
В этих условиях уголовно-правовая норма, регламентированная ст. 250 УК РБ, может быть охарактеризована как комплексное предписание об ответственности за распространение как ложной рекламы товаров и продукции, так и их антирекламы, то есть распространение ложных дискредитирующих сведений о каких-либо товарах, продукции или услугах.
Имеются основания утверждать, что оба указанных деяния могут быть идентифицированы как распространение ложной общественно значимой информации и при определенных обстоятельствах даже образовывать признаки преступлений, предусмотренных ст. 2071 или 2072 УК РФ.
Обсуждение и заключение
На основании обзора уголовного законодательства государств ближнего зарубежья следует заключить, что общепринятым является уголовно-правовой запрет на заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Что касается распространения иной ложной общественно значимой информации, то подобные деяния криминализованы в единичных случаях. Такие уголовно-правовые запреты предусмотрены в УК РБ и УК РУ, и они в объеме уголовно-наказуемых деяний отчасти превосходят соответствующие российские аналоги.
1. Ivanov N.G. Obshchestvennaya opasnost' deyaniya // Ugolovnoe sudoproizvodstvo. 2024. № 2. S. 35 – 40. DOI: https://doi.org/10.18572/2072-4411-2024-2-35-40; EDN: https://elibrary.ru/RYLWYG
2. Konovalova A.B. K voprosu o nauchnoj polemike v otnoshenii pravovoj prirody zavedomo lozhnogo soobshcheniya ob akte terrorizma // Rossijskij sledovatel'. 2005. № 10. S. 23 – 25. EDN: https://elibrary.ru/KXWTMX
3. Shipunova M.N. O kvalifikacii rasprostraneniya nedostovernyh svedenij o Vooruzhennyh silah Rossijskoj Federacii // Rossijskij sledovatel'. 2024. № 3. S. 41 – 45. DOI: https://doi.org/10.18572/1812-3783-2024-3-41-45; EDN: https://elibrary.ru/AQQLNT