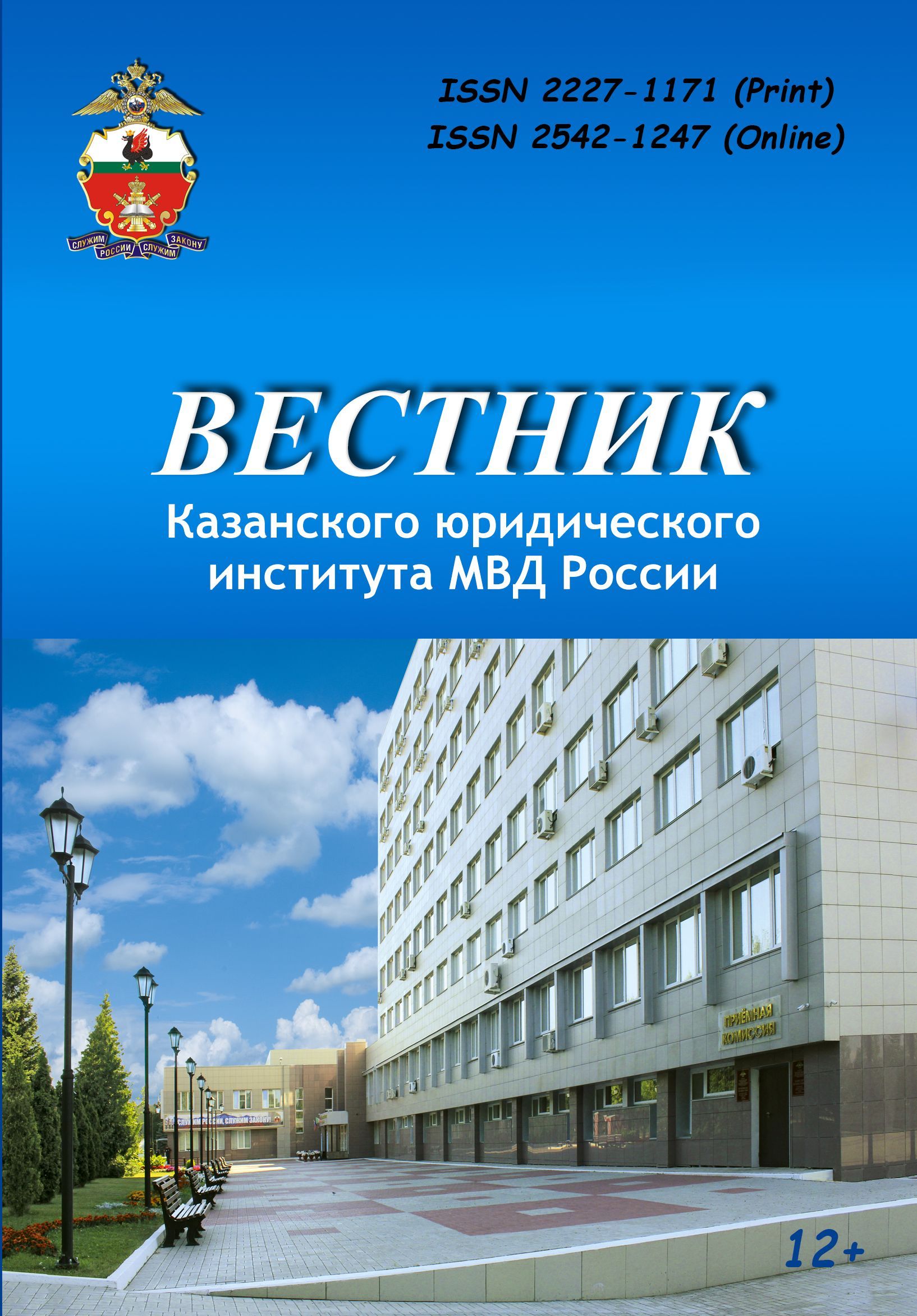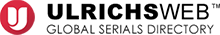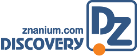Kazan', Kazan, Russian Federation
UDC 34
Introduction: this article is devoted to the problem of an unknown large–scale collision between Soviet troops and the Allied army in Germany near the city of Torgau a few days before the official meeting on the Elbe on April 25, 1945. Materials and Methods: the initial source for the comprehensive study was the memoirs and published diary entries of the real participants in the Spremberg-Torgau operation. The methodological feature of this work is the transition from microhistory to the analysis of information from memoirs and official documents. Everything that was previously considered private, and sometimes accidental, has become the focus of our research interest. In this regard, this approach made it possible to take a different look at long-known events. Results: in April 1945 American troops attacked Soviet military units east of the Elbe, but were defeated and driven back to the west. This event is viewed against the background of other examples of unmotivated aggression by the "allied forces" against Red Army units in territories controlled by Soviet troops. As a result of comparing memoirs with information from memoirs and archival documents, the deliberate nature of these attacks is revealed, with the aim of depriving the Soviet Union of victory in military, political and economic aspects. The outcome of the Spremberg-Torgau operation, with the defeat of German and American troops, had a significant impact on shaping the outcome of World War II, international politics, and the daily lives of millions of people. Discussion and Conclusions: the analysis of published and unpublished sources allows the authors to perceive individual events of the end of the Great Patriotic War in a different way. A true understanding of that historical period became possible only because researchers became aware of unknown or little-known facts about those difficult days that befell our people.
the Great Patriotic War; the Red Army; the allies; the Spremberg-Torgau operation; the Berlin strategic operation; the meeting of the allies on the Elbe; veterans
Введение
Одним из вопросов, которые возникают у исследователя при изучении боевых действий весны 1945 года, является вопрос о мотивах столь отчаянно жесткого сопротивления, которое оказали немецкие войска при обороне Берлина и даже после него. Одним лишь фанатизмом это не объяснишь. Ни деньги, ни надежды на победу не могли быть реальным побудительным мотивом к стойкому и даже жертвенному поведению немецких солдат, офицеров и гражданских ополченцев. Страх перед возмездием гнал миллионы немцев навстречу англо-американцам, поэтому он не мог быть психологической опорой сотням тысяч немцев, стремившихся в Берлин для его защиты. Очевидно, что традиционная трактовка событий весны 1945 года не дает нам удовлетворительных объяснений этого факта. Ответ на этот и ряд других вопросов содержится в материале статьи.
Обзор литературы
Историческая локалистика применительно к Шпремберг-Торгауской операции представлена крайне недостаточно. Вероятно, это связано с тем, что официальная история достаточно подробно рассматривает масштабные военные операции, не уделяя внимания более мелким, что не уменьшает их значимости.
В связи с особенностью методологии нашего исследования наибольшую ценность представляют воспоминания участников, многие из которых нашли возможность хотя бы вскользь упомянуть о стратегически важном событии, имевшем место 20-24 апреля 1945 года.
Особую ценность среди опубликованных работ имеет книга мемуаров маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления». Есть мнение, что каждое новое издание переписывалось со сменой политического режима [1-3]. В исследовании были использованы издания разных периодов, что позволило авторам представить информацию без политической окраски. Свидетельство Георгия Константиновича обладает большей значимостью, чем любой другой источник. Особую ценность представляет учебник «Военная стратегия» [4]. Книга об общих принципах военной стратегии содержит данные, благодаря которым воспоминания простых фронтовиков приобретают совершенно новое звучание, качество и значение.
При этом, опираясь на воспоминания участников событий, мы учитывали, что подобная информация так или иначе отражает субъективную точку зрения автора.
Среди военной литературы следует выделить первоисточники – сборники исторических документов [5-7]. Ценность источников в том, что они содержат огромное количество документов и информации по теме Великой Отечественной войны. Особенность трудов советского периода в том, что материал подобран с учетом политических реалий 1950-1980-х гг.
Большой фактологический материал содержится в исследованиях зарубежных авторов [8-11]. Об отдельных аспектах войны повествует огромное количество опубликованной исследовательской и мемуарной литературы. Объектом острых дискуссий является вклад советского народа в победу над фашизмом. Следует признать, что подлинную историю войны, роль каждого государства в ней нельзя воссоздать без анализа воспоминаний главных ее участников – ветеранов.
Материалы и методы
Исходным источником для комплексного исследования послужили устные воспоминания и опубликованные дневниковые записи реальных участников Шпремберг-Торгауской операции. Этот материал был подвергнут исследованию, в ходе которого применялись общенаучные и специальные методы: анализ, сравнение, опрос, сепарация, систематизация и др.
Методологической особенностью статьи явился переход от систематизированных данных микроистории к анализу сведений мемуаров и официальных документов.
Результаты исследования
Прежде чем перейти к основному материалу, следует вспомнить, что английская корона, а позже и американцы (при участии международного финансового сообщества) в течение многих столетий интриговали против России, втягивая её в один конфликт за другим, не позволяя ей получить выгоды от побед.
Раз за разом мировой финансовый капитал создавал коалиции против России, пытаясь одолеть её совместными усилиями многих стран. Порой им удавалось вырывать победу, которая, казалось бы, находилась уже в руках. Так было, например, в Ливонской войне, в войнах против Турции, в Первой мировой войне, в польском походе РККА 1920 года и др.
Период Второй мировой войны был лишь коротким эпизодом вынужденного сотрудничества стран-антагонистов. При этом никто из крупных политиков не обманывал себя иллюзиями о перспективах послевоенных отношений с «союзниками» по антигитлеровской коалиции. Именно поэтому «партнеры» делали всё, чтобы СССР вышел из войны с Германией максимально ослабленным, и отчасти этого добились.
При детальном изучении переписки лидеров союзных держав после Тегеранской конференции создаётся впечатление длительного и нарастающего противодействия англо-американского руководства и высшего командования продвижению советских войск в Европу. Они пытались связать свободу действий СССР множеством оговорок и дипломатических уловок, и для этого у них в распоряжении были реальные геополитические заделы.
В результате распада европейских империй по итогам Первой мировой войны Антанте удалось создать буферную зону в Европе из зависимых государств, которые поддерживались в противостоянии с «красной угрозой». Новоявленные лимитрофы при помощи крупных держав смогли остановить движение на Запад революционной Красной армии в 1920 году. В связи с такими результатами в Британии с удовлетворением отмечалось, что против Советской России был создан единый блок из 12 государств. И.В. Сталин ещё в 1919 году дал оценку этому геополитическому манёвру, точно охарактеризовав прокси-армии лимитрофов как «резерв империализма»2. В 1920 году стратегия прокси-войны достигла максимальных результатов: от России были оторваны огромные территории и несколько миллионов человек.
В 1938-1939 гг. эти молодые «демократии» передавались Гитлеру (и предавались вопреки договорам) ради его броска на Восток.
В конце войны Англия вновь попыталась сыграть на международной арене в ту же игру: создать «пояс безопасности из восточноевропейских «демократий». Попытка Британии восстановить марионеточные буферные государства в Восточной Европе прослеживается в антигитлеровских восстаниях в Вильнюсе, Варшаве, Румынии, Словакии и Чехии в 1944-1945 гг., которые вспыхивали накануне подхода советских войск. Напомним, их буржуазные элиты базировались в Лондоне. Ту же цель мы видим в попытках разворота3 в Финляндии и Венгрии в 1944 г. Безусловно, если бы Ф.Д. Рузвельт принял предложение У. Черчилля о наступлении через Балканы, то замысел восстановления пояса буферных государств мог быть реализован хотя бы частично. Напомним, что восстание в Румынии оказалось успешным благодаря стремительной наступательной операции советских войск на фронте в Молдавии. Если бы союзники осмелились высадиться на Балканах, то вышеупомянутые восстания получили бы и непосредственную помощь союзников.
Однако на этот раз И.В. Сталин, опираясь на личный опыт, мощь советской армии и идею национального освобождения от фашизма, действительно, проявил мудрость и не позволил ни одному из буржуазных правительств Восточной Европы захватить власть и стать плацдармом против СССР в грядущем противостоянии с Западом.
«Союзники», помогая Германии (по большей мере скрытно), поставляли ей всё необходимое через «нейтральные» страны и Испанию – от редкоземельных металлов и авиационного бензина до разведывательной информации, виски и предметов роскоши. Разведка англо-американцев нередко сдавала агентуру Коминтерна гестаповцам, а сведения о советских военных операциях передавали «Абверу», их агентура готовила националистическое подполье для послевоенного передела Восточной Европы. При этом США успешно реализовывали свои товары по обе стороны фронта.
Отмечены факты прямой стратегической дезинформации нашего Верховного командования на высшем уровне весной 1945 года [3, с. 290; 3, с. 322, 323; 6. с. 328]. В случае реализации английской информации ход боевых действий в 1945 году и результаты войны могли быть несколько иными. Безуспешность вышеуказанных действий заставляла наших «партнёров» рассматривать варианты силового противодействия неизбежной победе СССР.
Осенью 1944 года «союзниками» стали рассматриваться варианты взятия Берлина до подхода Советской армии. Так, 15 сентября 1944 г. верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной Европе генерал Д. Эйзенхауэр в письме фельдмаршалу Монтгомери отмечал: «Ясно, что Берлин является главной целью. По-моему, тот факт, что мы должны сосредоточить всю нашу энергию и силы с целью быстрого броска на Берлин, не вызывает сомнений…»4.
Советское командование знало об этих планах [3, с. 287 и др.]. Британский командующий Монтгомери стремился взять Берлин «раньше русских» и требовал поддержки американцев [8, с. 349, 452].
Осенью 1944 года начались отдельные «случайные» нападения англичан и американцев на советские самолёты, корабли, воинские части. Причём на Тихом океане они списывали потопленные корабли на подводные лодки японцев5 [7, с. 220 и др.].
Следует отметить, что все участники глобальных событий понимали, что реальными преференциями будет обладать та сторона, которая сможет взять Берлин и располагать наиболее боеспособной группировкой войск в Европе. В этом отношении особую значимость приобретают факты, свидетельствующие, что западные союзники рассматривали и иные, не согласованные с И.В. Сталиным сценарии действий.
Так, командующий экспедиционными силами «союзников» в Европе генерал Д. Эйзенхауэр заверял военное руководство США и Великобритании, что он понимает огромную политическую роль взятия Берлина. Он писал: «Если ˂…˃ усилия союзников овладеть Берлином более важны, чем чисто военные соображения ˂…˃ я с готовностью внесу поправки в свои планы ˂…˃ чтобы осуществить такую операцию» [12, с. 5].
В начале апреля 1945 г. У. Черчилль настойчиво рекомендовал Фр. Рузвельту: «Русские ˂…˃ Если они захватят Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу˂...˃нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять» [9, с. 457, 459].
Штабами «союзников» планировалось продвижение в сторону Берлина. Еще в марте 1945 г. тайная агентура Управления стратегических служб, действовавшая в Берлине, была предупреждена о том, что армии генерала Эйзенхауэра достигнут германской столицы к середине апреля.
Именно в этом смысле следует рассматривать участившиеся нападения англо-американцев на советские части. Это не только традиционная проба сил, – приём, издавна применявшийся в армиях потенциальных противников. Советское командование поначалу сдерживалось, опасаясь спровоцировать деструктивные силы в американских штабах и не вовлечь страны Антанты (таковыми они и остались – Набиев Р.Ф.) в военное противостояние против СССР. Напомним, по подобной схеме неоднократно лишали Россию бонусов от победоносных войн. На эту схему намекал, а затем на ней и настаивал У. Черчилль.
Антисоветские силы стали периодически создавать прецеденты, которые при желании можно было рассматривать как casus belli (повод к войне).
Таковым, например, был наиболее известный случай внезапного нападения «союзников» в районе г. Ниш (Югославия). Сорок американских «Лайтингов» 7 ноября 1944 г. штурмовали аэродром 866-го истребительного авиационного полка и штаб 6-го гвардейского стрелкового корпуса. В сбитых американских самолетах были обнаружены карты, на которых уже освобожденный Советской армией Ниш был обозначен как цель. Ошибка исключена. Штурмовка наших частей сопровождалась несколькими воздушными боями с нашими истребителями6. Совместное расследование признало эти нападения ошибкой. Англоязычный сайт объясняет засекречивание этого случая тем, что обе стороны изъявили желание исключить возможность использования их в фашистской пропаганде7.
В воспоминаниях и мемуарах участников боёв отмечаются случаи отдельных «ошибок» партнёров в марте-апреле 1945 г., когда американские и английские самолеты и корабли внезапно переходили в атаку на наши воинские части и технику8. Порой эти стычки заканчивались трагически: погибали офицеры и бойцы, прошедшие всю войну. На факты и недопустимость подобных нападений советское руководство официально указывало союзному командованию в начале 1945 г. [7, с. 332-333].
Например, 19 марта 1945 года начальник Генерального штаба РККА в письме, адресованном главе военной миссии США в СССР генерал-майору Д.Р. Дину, настаивал на недопустимости нападений на советские самолеты. В качестве яркого примера был приведен случай, когда истребители Як-3, отгоняя немцев от американских бомбардировщиков, подверглись внезапной американской атаке, несмотря на то, что демонстрировали звезды на своих крыльях. Результатом нападения стали 6 сбитых советских самолетов, убитые и раненые летчики. Отмечалось также, что это не первый подобный случай над советской зоной ответственности [7, c. 332-333]. Подобные случаи описывали и советские летчики, например, трижды Герой Советского союза И.Н. Кожедуб.
На попытки ограничить произвол американских ястребов путём переговоров порой не было адекватного ответа. Так, командующий американскими ВВС Карл Спаатс демонстративно отказался обсуждать с маршалом Г.К. Жуковым порядок полетов над советской зоной, заявив, что «американская авиация всюду летала, и летала без всяких ограничений» [3, с. 360].
Изучение этих фактов делает ясным, почему в апреле в небе над Берлином советские летчики стали сбивать самолёты США9. Более чем странно выглядит описание этой ситуации англоязычными историками. Э. Бивор, в частности, пишет, что «Кремль и не подумал извиняться», когда советские самолеты «атаковали по ошибке две американские крылатые машины и одну из них сбили. Всё это происходило на фоне предыдущих советских обвинений в адрес ВВС США» [10, с. 384-385]. Заметим, что Э. Бивор пишет о претензиях со стороны СССР, но не о степени ответственности англо-американцев за регулярные провокации.
Указанные и некоторые иные материалы свидетельствуют, что участившиеся нападения на советские войска не были случайностью и англо- американцы не оставляли надежды остановить их и захватить максимально возможную территорию советской зоны оккупации.
В конце ХХ века широкой общественности стало известно о содержании британского плана под названием «Операция “Немыслимое”», который был подготовлен объединённым штабом планирования военного кабинета10. Ранее об этом плане знали лишь очень немногие специалисты.
По плану Черчилля «1 июля 1945 года 47 английских и американских дивизий без объявления войны должны были нанести сокрушительный удар не ожидавшим его русским» – говорится в материале, размещенном в сетевом издании «Военное обозрение». Удар англо-американцев должны были поддержать 10-12 немецких дивизий, которых «союзники» держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании, их ежедневно тренировали британские инструкторы: готовя к войне против СССР»11. Советское руководство знало об этих планах. Во время одной из бесед с У. Черчиллем в ходе Потсдамской конференции И.В. Сталин резко перевел разговор на иную тему: «400 тысяч немецких солдат сидят у вас в Норвегии, они даже не разоружены…» 12.
Одним из принципиально важных обстоятельств, оказавших влияние на обострении обстановки, была смерть Д.Ф. Рузвельта 12 апреля 1945 г., с которым у И.В. Сталина были личные договорённости.
В различных источниках содержится информация о выходе к р. Эльбе англо-американских частей ранее известного в истории срока. Например, А.В. Васильченко пишет, «12 апреля 1945 года в районе 20 часов первые плавающие автомобили были спущены в Эльбу <…> восточный берег в этом районе не удерживался никакими немецкими частями <…> Ещё 12 апреля войска 9-й американской армии У.Х. Симпсона достигли Эльбы в районе г. Магдебурга, переправились через неё и создали плацдарм на правом берегу». 2-я танковая девизия генерала А.Д. Вайта, согласно ранее разработанному плану, должна была идти на Берлин <…>» [14, с. 74]. О. Бредли упоминал про два плацдарма на Эльбе [11].
Схожие сведения приводит и английский исследователь Энтони Бивор. Он пишет, что по состоянию на 12-13 апреля 1945 г. на восточной стороне Эльбы союзниками было создано несколько плацдармов. По его данным, 14 апреля по понтонному мосту на восток переправилась 2-я танковая (моторизированная) дивизия США. Плацдарм растянулся до Цербста [10, с. 506]. На южном фланге, продвигаясь к Эльбе через территории, отведенные СССР, они разрушили до основания города Дрезден и Лейпциг, захватили и вывезли из нашей зоны оккупации учёных, патенты, значительное количество ценностей [3, с. 358]. Э. Бивор вполне справедливо отметил, что «Советское командование чрезвычайно опасалось присутствия здесь частей американской 3-й армии... уйдут ли американцы отсюда в отведенную им зону оккупации…» [10, с. 472].
Вопрос о рывке к Берлину постоянно дискутировался в руководстве западных союзников. В последующем в своих мемуарах они отказывались от этих планов, но, как правило, всё же проговаривались. Так, О. Бредли писал о планировании дальнейшего наступления после форсирования Рейна: «…можно было … продвигаться к Эльбе и Мульде. Как только мы приблизимся к этой линии реки, я бы распределил две свои армии за ней и повернул бы на юго-восток с третьей, вниз по Дунаю...» [11, p. 523]13. То есть, они не только выторговали себе право разгрома врага на территории советской зоны оккупации от восточных границ Баварии до Эльбы, но и рассчитывали захватить и территории восточнее её, отсекая наши войска от Австрии и Чехословакии.
Напомним, что Эльбу переходили до 25 апреля 1945 года и отдельные советские части. Известен, например, знаменитый рейд казачьей конницы для спасения донской породы лошадей. Этот рейд оказался загадкой для союзников по своим целям, силе и возможностям.
Особого внимания заслуживает дневник одного из бойцов Советской армии. Борис Ильин 21 апреля 1945 пишет: «Вскоре перешли в деревню [Кохсдорф – Набиев Р.Ф.], где услышали невероятную новость: наша 4-я танковая армия вышла на Эльбу»14. Это сообщение в свете рассматриваемой нами темы имеет особое значение.
Было и ещё одно важное обстоятельство, не позволявшее «союзникам» в конце апреля делать бомбовые коридоры от Эльбы и железным валом напирать до западных окраин Берлина. В этот период они вывозили из Германии учёных, валютные счета, ценности, уран, и архив15. Американские войска и командование обеспечивали их встречу и эвакуацию. Причём, некоторых – прямо из Берлина16. Рисковать такими суммами и своими солдатами за сомнительное удовольствие числиться среди штурмующих Берлин американцы не стали. Такой довод не раз проскальзывал в воспоминаниях О. Бредли и Д. Эйзенхауэра.
Деньги, архивы, технологии и «мозги» – это потенциал уже будущей войны, поэтому так важно было не допустить их попадания в СССР. Возможно, это обстоятельство было подлинным мотивом нескольких крупных столкновений наших частей с англо-американцами весной 1945 года.
Весь этот совокупный потенциал Германии ускользал от РККА на север, юг и запад. Вероятно, поэтому 14 апреля 1945 г. Д. Эйзенхауэр, уточняя план действий своих войск, писал в докладе Объединенному комитету начальников штабов, что было бы весьма желательно нанести удар в направлении Берлина, но, «учитывая крайнюю необходимость срочно открыть наступательные действия на севере и на юге, следует отвести наступлению на Берлин второе место и ожидать дальнейшего развития событий»17.
Столь обширное вступление авторы предприняли с целью подготовки читателя к восприятию совершенно неожиданной информации, поведанной нам непосредственными участниками этих судьбоносных событий18.
Во второй половине апреля 1945 года Кантемировский 4-й гв. тк генерала П.П. Полубоярова устремился к Эльбе. В авангарде шли танки 12-й тбр. Н.Г. Душака, головную часть которой возглавлял майор Григорий Добрунов.
П.П. Полубояров писал в своих воспоминаниях: «Наше соединение вырвалось очень далеко вперёд. Это был молниеносный рейд. Когда мы вышли к Эльбе, в районе Торгау, нас настолько не ожидали там, что вся немецкая оборона и по восточному и по западному берегу оказалась обращённой на запад, – направленной против союзников. И наши передовые отряды стали давить артиллерию врага на этом берегу, прежде чем она смогла открыть огонь. А ещё часа через два наша Кантемировская мотопехота, примчавшаяся на танках и бронетранспортёрах, начала форсировать Эльбу. Это были первые части Красной Армии, переправившиеся на западный берег»19. Дата не указывается, но не исключено, что первое форсирование было примерно 20 апреля 1945 г.
20 апреля 1945 г. в районе города Торгау части Красной Армии подверглись нападению американских частей, развивавших наступление от берегов Эльбы на восток. Части 1-й армии войск США после внезапной массированной бомбардировки атаковали наши авангарды.
Советские войска на этом направлении испытывали в это время многочисленные болезненные контрудары немецких войск, рвущихся из локальных «котлов» к Берлину и Эльбе. Приходилось регулярно переносить усилия с одного направления на другое и вести маневренные бои. Новый неожиданный удар, нанесённый под прикрытием массированных бомбардировок, заставил советский механизированный авангард остановиться и несколько отступить.
Перегруппировавшись, советские части после мощной артподготовки перешли в наступление на врага. И только спустя некоторое время выяснилось, что противником были части 1-й армии США под командованием К. Ходжеса. Затем и на других участках советские войска вынудили вернуться на оговорённые рубежи авангарды армий союзников.
Сегодня трудно поверить, что от миллионов людей можно было так долго скрывать столь масштабные и значимые события, но, заметим, отдельные эпизоды этого противостояния проникали в мемуары фронтовиков. Пример советских асов-истребителей И.Н. Кожедуба и А.И. Колдунова позволяет понять механизм сокрытия этих боестолкновений с «союзниками». Режим секретности не позволял летчикам вносить в свой персональный счёт сбитые американские самолёты до следующей войны в Корее20. Режим секретности, обусловленный высшими политическими интересами, заставлял скрывать или вуалировать информацию о столкновениях с американцами.
Именно поэтому столь ценны свидетельства ветеранов (а в то время молодых солдат), непосредственно участвовавших в описываемых событиях. В статье впервые применена методика сопоставления систематизированной информации микроистории (рассказы рядовых бойцов и командиров) с опубликованными источниками, содержащими завуалированные сведения, с целью постижения глубинных смыслов, казалось бы, известных событий.
По рассказам ветеранов, во второй половине апреля 1945 г. мощный советский танковый кулак 4-й ТА раз за разом разбивал группировки немецких войск, выдвигаемых для удержания наших передовых частей. Иногда авангарды отступали, но, подтянув силы, атаковали более крупными силами. Получив сокрушительный удар от советских войск, немецкие части обычно разбегались, распылялись, как бы получив обоснованный повод бежать в западную зону. Советские авангарды неслись к следующему рубежу по невиданным в Восточной Европе бетонным автобанам. С западного фронта на восточное немецкое командование постоянно перемещало боеспособные части, стягивая все, что могло держаться против Советской армии хотя бы некоторое время21.
Бывший механик-водитель танка Т-34-85 4-го гв. танкового корпуса 4-й ТА Д.Д. Лелюшенко сержант К.Х. Кадиков вспоминал в 1978 г., что в середине апреля уже чувствовалась полная победа, а сопротивление немцев потеряло организованный характер. Лишь время от времени приходилось держать удар со стороны контратак элитных дивизий, подобных «Дас Райх».
Советские солдаты уже привыкли, что со второй половины апреля в небе господствовала авиация союзников. Изредка пролетали немецкие реактивные истребители, но групп немецких самолётов к 20 апреля 1945 г. они не видели уже несколько дней. Господство в небе позволяло нашим войскам южнее Берлина вести боевые действия сразу по нескольким направлениям.
Противник пытался организовать «народную войну». На дорогах нередко устраивались засады фаустников. К.Х. Кадиков описал нетипичный случай, когда противотанковую засаду выдал немецкий коммунист. Деревня, растянувшаяся каменными фольварками вдоль автострады, была уничтожена одним залпом вместе с засевшими в ней фаустниками. Танки авангарда рванулись дальше.
Внезапно начались массированные бомбёжки вражеской авиации, которые парализовали наступление наших авангардных частей. В это время ветеранам вспомнился 1941 г. Сопротивление противника резко возросло, как и его огневая мощь. Внезапный мощный контрудар врага при подавляющей авиационной поддержке заставил отступить советские танковые авангарды. Никто из рядового и сержантского состава не сомневался, что это был очередной резерв немцев. По словам ветерана, это было 20 апреля 1945 г.
Следует отметить, что в это время наступающая группировка наших войск испытывала удары с нескольких сторон: в г. Шпремберге жёсткую оборону пыталась организовать группировка немецких соединений. 12-я немецкая армия В. Венка повернула фронт с Эльбы на восток и рвалась к Берлину. С юга наступала группа Ф. Шёрнера и 9 армия Буссе, пытаясь выполнить приказ Гитлера на деблокаду. Группировка, запертая в лесах вокруг п. Хальбе, могла насчитывать до 200 000 человек [10]. В тылу наших войск с юга на помощь Берлину некоторое время успешно наступала группа войск генерал-фельдмаршала Ф. Шёрнера, нанёсшая поражение 2-й Польской армии и некоторым советским соединениям в районе Бауцена22 и продвинувшаяся на 20 км в направлении г. Шпремберг23 [3, 10].
После мощной артподготовки и авиационной обработки советские части перешли в последнее перед Эльбой мощное наступление в направлении г. Торгау. Враг «сломался» довольно быстро и нёс большие потери. По свидетельству ветеранов, поля вдоль дорог были завалены техникой и трупами, многие из которых имели темный цвет кожи. Тогда этому обстоятельству наши бойцы не очень удивились, т к. уже с 1942 г. гитлеровцы привлекали к боевым действиям разные национальные части. Некоторые солдаты лишь спустя время (когда братались на Эльбе с союзниками), узнали в их форме «лыжную» форму тех солдат, что покрыли своими телами поля на восточном берегу. Тогда даже простые солдаты поняли, что нападение в пользу гитлеровцев проводили американцы [15, 16, 17].
Со временем авторская база сведений о весенних боях с американцами пополнялись свидетельствами других участников, и «солдатская байка» начала приобретать реальные черты. Наш контрудар глубиной от 30 до 90 км описывали офицеры в отставке Иван Алексеевич Синицын (355-й иап), Бронислав Александрович Бурмистров (преподаватель МВТУ им. Н. Баумана), авиатехник 1-го Украинского фронта Ерёмин Трофим Фёдорович. «Из-за нападения американцев, которые перешли реку нам подняли по тревоге. Жуков дал команду бить»24. Схожие воспоминания солдат и офицеров размещены на некоторых сайтах в сети Интернет25. Их описания детально совпадают со сведениями вышеупомянутого участника событий – К.Х. Кадикова, сообщение которого мы зафиксировали в 1978 году: нападение американцев и наш контрудар происходили 20-23 апреля 1945 г. Эти описания можно сопоставить и с другими сообщениями, которые раскрывают то же, но в иносказательной форме.
Подчас в комментариях к тезисам в Интернете можно встретить публикации из семейных историй, поведанных некогда отцами, дедами и прадедами публикаторов. Приводим некоторые из них с сохранением стилистики:
Сербин Виктор: «Мне очень интересно, почему никогда и нигде не упоминают, какая на самом деле была встреча на Эльбе! Как Г.К. Жуков гнал американцев фронтом около 150 километров на глубину до 30 километров в отместку за бомбардировки уже занятой РККА территории и заводов. За гибель свыше 10 000 наших солдат даром! Это чтобы оборудование заводов не досталось советам!»
Алексей Северный: «Мой отец … рассказывал совсем другую историю. Вроде был секретный приказ Жукова о возможности столкновения с переодетыми в американскую форму немцами, и первая "встреча на Эльбе" с союзниками состоялась как боевое столкновение, и американцы при этом крепко "получили по зубам". А потом уже наши с ними братались-обнимались. Потому, возможно, почувствовав силу лучшей армии мира, они особенно не рыпались, даже при наличии ядерного оружия. Зубы ныли. Правда или легенда - не мне судить, скорее всего - так и было. На Рейхстаге ведь тоже не один флаг висел. Он говорил – «встреча на Эльбе» была не первой, сначала были боестолкновения».
Сергей Середенко: « … из рассказа моего соседа в день 9 мая танкиста. Нам дали приказ занять плацдарм до Эльбы! Немедленно выдвигаемся и с ходу крушим жиденькие войска фрицев, но через небольшое время видим танки какие-то, не немецкие! В нас стреляют! Воюют! Ну мы, конечно, воевать, давай их жечь! Бегают какие-то черные солдаты, в нас стреляют! Ну мы их и погнали! Гнали долго, до самой Эльбы! Потом смотрим – в реке негры плавают! Вылазим из танков, а это американцы матерятся по своему! Мы их вылавливаем, спрашиваем: «Вы че против нас воевали?» Они: «Был приказ, мы и воюем! Вот так и встретились на Эльбе!». «Гнали их и били с удовольствием. Сожалели, что не дали добить», – отмечал другой26.
Схожие воспоминания об этих событиях излагали Александр Андреев (информатор – Петр Иванович Самарин – артиллерист гаубичного дивизиона) и Виктор Алёхин (информатор: школьный учитель). Участники событий рассказывали, что в 1945 при преследовании уходивших на Запад немецких колонн их из засады атаковали американцы. Наша пехота рывком проскочила в мертвую зону, перебила часть окапывавшихся американцев, а часть взяла в плен. Танки, замаскированные на горе в стогах сена, уничтожила артиллерия. При этом хорошо их покалечили за подлое нападение. Те отговаривались приказом. Впоследствии, после 25 апреля 1945г. в ходе братания и празднования встречи на Эльбе, ещё раз крепко отлупили «союзников» после пьянки27.
Петров Иван Прохорович, который командовал тяжелым гаубичным полком и по приказу Г.К. Жукова затратил 5 боекомплектов в ходе обстрела противника. Синицын Иван Алексеевич (355-й иап) оценивал масштаб разгрома в «две дивизии»28. Оценка глубины продвижения в рассказах бойцов разнилась от 30 до 90 км. Судя по свидетельствам ветеранов, схожие удары осуществлялись и на других участках, в том числе и в Австрии в направлении г. Линц.
Но даже множество подобных воспоминаний можно было бы отнести к разряду типичных «солдатских баек», если бы они не нашли подтверждения в некоторых несекретных публикациях. Например, карты Берлинской стратегической операции, которые ещё в советское время придали солдатским рассказам высокую степень достоверности.
Так, на карте учебника «Военная стратегия» советского времени можно заметить необычную зеленую стрелку, идущую от Эльбы навстречу мощным красным стрелам советских войск. После соприкосновения с красной стрелой зелёная пунктиром уходит на запад [2]. Указание этого удара означает, что подобная «утечка» в какой-то период была «высочайше утверждена».
Этот же удар зафиксирован на карте Берлинской операции, которая приводится в книге «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова [1, с. 670; 2, c. 238;]. При этом описание событий отсутствует. Таким образом, Г.К. Жуков не нарушил предполагаемый запрет, но своим авторитетом окончательно утвердил реальность разгрома американских войск.
Локальные свидетельства фронтовиков, чьи воспоминания противоречили официальному изложению, дали нам возможность обратить внимание на ряд сведений из официальных источников, которые прямо и косвенно подтверждали солдатские рассказы, в том числе завуалированные следы разгрома 1-й американской армии. Только зная об этом событии, можно сложить в единую картину множество «странных» фактов и деталей из опубликованных источников.
Например, американские полководцы в своих воспоминаниях, разумеется, скрывали факт поражения от Советской армии, тем более что часто это были публикации периода «маккартизма». Но солдатская прямота и совесть порой заставляли их проговариваться. Так, в воспоминаниях О. Бредли фраза, описывающая встречу на Эльбе (Soon after our juncture with the Soviets at Torgau…), двусмысленна. Её можно читать и как встречу, взаимодействие и как столкновение войск благодаря применению термина «juncture» [14, p. 534]. Причём в стандартных случаях для обозначения встречи обычно применяются другие слова.
В воспоминаниях Д.С. Паттона (3-я ОА США) он делится своим возмущением тем, что Д. Эйзенхауэр запретил ему двигаться на Прагу, и лишь спустя время он узнал, почему была такой приказ.
Считается, что 3 армия остановилась на линии г. Пльзеня. Однако некоторые участники событий отмечали американские подразделения восточнее. Например, чешские ветераны восстания вспоминают разведгруппу американцев в самой Праге. Ещё более примечателен случай, который сообщил нам бывший корреспондент «Красной Звезды», служивший под Торгау в 80-е годы ХХ в. Валентин Кирязов: «когда американская танковая рота влетела в Прагу в мае 1945 года, И.С. Конев приказал расстрелять её, т.к. она нарушила договор между союзниками о разграничении зон».
Генерал Форрест Погью признавал нарушение договорённостей американцами, но стремился занизить масштабы событий: «В соответствии с приказом 12-й группе армий от 12 апреля, согласно которому войска 1-й армии не должны были наступать восточнее Мульде без разрешения своего командующего, Генерал Ходжес 24 апреля заявил, что только небольшие американские патрули должны переправиться через реку. Его приказ на прекращение наступления был так широко сформулирован, что позволял переправиться за реку войскам более сильным, чем обыкновенный патруль. 25 апреля три из таких «блуждающих» частей вошли в соприкосновение с передовыми частями Красной армии на Мульде, на Эльбе и за Эльбой. Первая официальная встреча между американскими и русскими командирами дивизий имела место на следующий день близ Торгау» [9, с. 467]. С датами он ошибся, но уверенно утверждает, что официальная встреча произошла после реального соприкосновения.
В последние годы рассекречены журналы боевых действий ряда частей. Несмотря на отсутствие прямых указаний о столкновениях с войсками «союзников», они содержат ряд сведений, которые не соответствуют традиционной трактовке событий и могут расцениваться как завуалированное отражение событий.
Так, иногда в «журналах боевых действий» советских частей выход на Эльбу указывается 23 апреля 1945 г. Например, в материалах 13-й гвардейской мотострелковой дивизии: «23 апреля вышла к реке Эльба в районе Торгау, где встретилась с американскими разведчиками»29.
В «Историческом формуляре» о встрече 58 гв.стр.д. также указано, что «23.04.45 преодолевая упорное сопротивление противника, дивизия вышла на восточный берег Эльбы в районе города Торгау. В последующие дни дивизия вела мелкими группами разведпоиск на западном берегу р. Эльба»30.
Ещё в советское время было известно и никогда не скрывалось, что 1-й гвардейский кавалерийский корпус В.К. Баранова захватил за Эльбой племенной завод, вывезенный немцами в 1942 г. Этот же корпус 23 апреля отмечался уже у г. Риза на западном берегу Эльбы. 31
Иногда историки прямо намекали на неоднозначность встречи, но массовый читатель не мог понять, что скрывается за странной фразой. Как намёк на описываемые события можно оценивать упоминание И. Зацарина, который вскользь отмечал: «Хоть согласована встреча была заранее и даже оговорены сигналы, но в результате всё равно получилась неразбериха: официальным, т.е. вошедшим в историю, стал только третий контакт союзных войск» 32.
Офицеры в своих воспоминаниях нередко пытаются намекнуть на разгром «союзников» яркими деталями. Некоторые из них отмечали в своих мемуарах, что в конце войны среди трофейного вооружения у разбитых немецких войск наблюдалось и американское оружие, которое, как выяснилось, было последних модификаций. Ранее эти сообщения трактовались в советской прессе как следствие нарушения американским капиталом установленного эмбарго на торговлю со странами нацистского блока. Но вышеприведенные факты позволяют предполагать, что подобные строки в мемуарах могли быть намеком на «случайное столкновение» с союзниками.
Немецкий сайт «Sachsische Gedenktstetten» выдаёт подробности установления контактов с американцами 25.04.1945 года в Торгау: американцы направили спецгруппу якобы для спасения своих раненых и пленных в Торгау. Но даже продемонстрировав американский флаг с башни, они были обстреляны с восточного берега реки. При этом в форте Зинна был захвачен советский офицер Титов, при помощи которого и был установлен контакт с советскими войсками, находившимися на восточном берегу Эльбы33. Отмечалось также, что мост через Эльбу ранее был взорван отступавшими немцами, но нам известны и другие сведения о тех, кто, отступая взорвал мост.
Постепенно общая картина событий стала приобретать реальные очертания. По всей видимости, к 25 апреля 1945 года советские части отошли на восточный берег реки, оставив лишь наблюдателей или передовых наводчиков.
С учётом вышеописанных сведений ряд известий об этих событиях из самых разных источников, также теряет свою недосказанность:
- во-первых, указание американцев о сбитом немцами своем самолете в районе Торгау 24.04.1945 [9]. Наши ветераны вспоминали сбитый американский самолёт, который упал в Эльбу;
- во-вторых, первоначально негативное отношение американских солдат к нашим парламентерам 25.04.1945, которых они приняли за пленных (с нашими знаками различия) [6, с. 343];
- в-третьих, строки официальной хроники, подобные следующей: «…сопротивление противника усилилось. Далеко оторвавшись от главных сил и тылов, союзные войска не сумели не только развить успех, но и отразить контратаки немцев. Плацдарм у Магдебурга был оставлен» [18, с. 212; 7, с. 465].
Полагаем, контрудар советских войск был очень чувствительным и грозил раздором среди союзников. Об этом свидетельствует следующее упоминание О. Бредли: «Утром 24 апреля P&PW34 позвонил в Висбаден, чтобы сообщить, что в полдень по вашингтонскому времени будет опубликовано заявление трех держав, в котором будет объявлено о прекращении сотрудничества» [10, p. 532].
Приведенные сведения о Шпремберг-Торгауской наступательной операции позволяют понять «подноготную» ряда последующих событий и документов. Например, любопытен в этом свете доклад начальника ГРУ РККА генерал-лейтенанта И.И. Ильичева начальнику Генерального штаба РККА А.И. Антонову от 24 апреля 1945 г. о том, что генерал Р. Дин (руководитель военного представительства миссии США в Москве) доложил в Вашингтон о натянутых взаимоотношениях с Москвой» [7, c. 341]. Только осознавая, у какой страшной черты стояли мы в апреле 1945 г., можно понять всю значимость этого сообщения.
В тот же день англо-американцы отреагировали. Немедленно последовало письмо союзников от 24 апреля 1945 г. в адрес помощника начальника Генерального штаба РККА генерал-лейтенанта Н.В. Славина с перечислением целей для ковровых бомбардировок авиацией союзников. В нем отмечалось: «…если Генеральный штаб Красной армии не будет возражать», то 26 апреля 1945 г. нижеперечисленные цели будут атакованы американскими и британскими ВВС: в числе перечисленных городов отмечены Вустермарк, Дебельн, Риза, Торгау, Усти, Фрейберг… Всего 66 объектов [7, с. 339-340]. Учитывая предшествующие события и господство в воздухе стратегической авиации союзников, это письмо следует воспринимать как прямую угрозу, требовавшую немедленного ответа.
Из сопоставления вышеприведённых сведений можно сделать следующие основные выводы:
- в результате контрудара Советской армии передовые части форсировали Эльбу и продвинулись вперёд на десятки километров (судя по расположению штаба дивизии на западном берегу;35
- после дипломатических демаршей и военных угроз советские части оперативно вернулись на линию временного разграничения на восточном берегу реки.
Вероятно, советское командование признало «ошибку» и временно отвело войска за Эльбу. Сделало выводы и американское командование.
Как это часто бывало, американцы имитировали «ошибку», которую демонстративно «исправили», издав 26 апреля 1945 г. распоряжение: «После сообщения о первом соприкосновении верховное командование приняло особые меры к организации тесной связи с советскими войсками, тщательно устанавливая принадлежность танков и войск в передовых районах, прежде чем разрешать авиации наносить удары» [10, с. 480].
После чего обе стороны старательно имитировали радостную встречу «боевых побратимов» 25 апреля 1945 года на мосту через Эльбу, который взорвали американцы, убегая от советских танков. Впрочем, солдаты и население действительно были рады такой встрече.
Последствия этой битвы (совокупно с ней мы учитываем и удары на других участках 20-24 апреля 1945 года) сказались сразу же на «большой политике».
4 мая 1945 г. Д. Эйзенхауэр сообщил генералу армии А.И. Антонову, что намерен развивать наступление на Чехословакию. Американцы взяли г. Пльзень. На следующий день начальник Генерального штаба РККА от имени Советского Верховного Главнокомандования выразил несогласие с инициативой союзников, многозначительно высказав опасения о возможности случайного «перемешивания» войск [9, с. 482]. Американцы (помня об опыте Торгау) верно оценили предупреждение и отступили. В итоге американцы не смогли соединиться с власовцами в Праге и затянуть Чехословакию в свой лагерь. «…Мы взяли бы Берлин, если бы могли это сделать», – отмечал ведущий политический советник президента Рузвельта Г. Гопкинс. – Обстоятельства распорядились по-иному»36 [18, с. 212].
Летом 1945 года США вывели войска из Дрездена, Лейпцига и всей советской зоны оккупации в преддверии вступления СССР в войну против Японии. Вынуждены были покинуть Виттенберг и англичане [3, с. 362].
Обсуждение и заключение
Таким образом, свидетельства ветеранов Великой Отечественной войны позволили соединить множество разнородных эпизодов в одну картину, что помогло дать ответы на целый ряд спорных вопросов, не нашедших отражения в официальных источниках.
События под Торгау позволяют с предельной четкостью построить картину, согласно которой под Шпрембергом и Торгау «союзники» практически взаимодействовали с немецкими войсками.
Синтезированная нами информация позволяет по-новому оценить течение послевоенных событий. По всей видимости, результаты именно этой блестящей операции заставили англо-американцев соблюдать ялтинские и тегеранские соглашения и уважительно относиться к солдатам и офицерам Красной армии.
Обе стороны сделали выводы и в дальнейшем избегали открытых масштабных столкновений, стремясь воевать силами прокси-войск.
На Потсдамской конференции советской дипломатии удалось сохранить все основные позиции, несмотря на положение должника и наличие у США ядерной монополии. Главным достижением «Ялтинско-Потсдамской системы» является то, что СССР, не обладая ядерным оружием, добился условий, позволивших стране не только восстановить, но и укрепить экономику, армию и международное положение. Одним из важнейших факторов, обеспечивших уважительное отношение к позиции и роли СССР, были фантастически успешные наступательные операции 1945 года и плачевные для «союзников» результаты практического столкновения советских и американских войск.
Приведенные нами сведения, а также ряд иных фактических данных позволяют прийти к обоснованному выводу, что описываемые события вполне соответствуют общей тенденции в стратегическом планировании и действиях англо- американцев, направленной на ослабление России/СССР.
Благодарности: с великим почтением отдаем дань памяти нашим воинам – участникам событий, передавшим нам крупицы сведений, которые позволили в общих чертах воссоздать картину Шпремберг-Торгауской наступательной операции и обстановки на фронтах в целом.
1. Zhukov G.K. Vospominaniya i razmyshleniya. Moskva: Politizdat, 1971. 704 s.
2. Zhukov G.K. Vospominaniya i razmyshleniya. Moskva: Novosti, 1988. 384 s.
3. Zhukov G.K. Vospominaniya i razmyshleniya. Moskva: Olma-press, 2002. T.2. 409 s.
4. Voennaya strategiya. Moskva: Voenizdat, 1984. 640 s.
5. Perepiska Predsedatelya Soveta ministrov SSSR s prezidentami SShA i prem'er-ministrami Velikobritanii vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny 1941-1945 gg.: v 2 t. T. 1. Perepiska s U. Cherchilem i K. Etli (iyul' 1941-noyabr' 1945). Moskva: Gospolitizdat. 1958. 406 s.
6. Sovetsko-anglijskie otnosheniya vo vremya Velikoj otechestvennoj vojny: sb. dokumentov / pod red. G.P. Kynina. Moskva: Politizdat, 1983. T. 2. 494 s.
7. Russkij arhiv. Velikaya Otechestvennaya: T. 15(4-5). Bitva za Berlin (Krasnaya Armiya v poverzhennoj Germanii): dok. i materialy / avt.-sost. I.M. Popov dr. Moskva: TERRA, 1995. 616 s.
8. Ejzenhauer D. Krestovyj pohod v Evropu / per. E.M. Fedotova. Smolensk: Rusich, 2000. 528 s.
9. Pog'yu F.S. Verhovnoe komandovanie. Moskva: Voenizdat, 1959. 528 s.
10. Bivor E. Padenie Berlina. 1945/ per. s angl. Yu.F. Mihajlova. Moskva: AST; Tranzitkniga, 2004. 622 s. EDN: https://elibrary.ru/QOVCFB
11. Bradley O. N. A Soldier\'s Story. 1951. New York: Holt, 1951. 526 p.
12. Istoriya vneshnej politiki SSSR: v 2 t. T. 2. 1945-1980 Moskva: Politizdat, 1985. gg. 542 s.
13. Shmelev N.A. S malyh vysot. Moskva: Voenizdat, 1966. 216 s.
14. Vasil'chenko A.V. Poslednyaya nadezhda Gitlera. Moskva: Yauza-press, 2009. 320 s. EDN: https://elibrary.ru/QPMRHH
15. Nabiev R.F. Bitva pod Torgau: pouchitel'nyj epizod vojny // Idel'. 2005. № 5. S. 52 – 53.
16. Nabiev R.F. Pochemu vojna zakonchilas' 9 maya? // Idel'. 2010. № 5. S. 40 – 47.
17. Nabiev R.F., Kabirov D.E. Shpremberg-Torgauskaya nastupatel'naya operaciya ili pochemu nemeckoe soprotivlenie ne snizhalos' do poslednego dnya // Sb. materialov IX Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Istoriko-kul'turnoe nasledie kak potencial razvitiya turistsko-rekreacionnoj sfery» 16-18 aprelya 2020, g. Kazan', 2020. S. 124 – 126. EDN: https://elibrary.ru/MWCXBJ
18. Hisamutdinova R.R. Sovetskij soyuz nakanune i vo vremya Velikoj otechestvennoj vojny. Orenburg: OGPU, 2015. 248 s.
19. Burovcev A., Rishes K. Vojna posle pobedy // Zagadki Istorii. 2016. № 9. S. 10 − 11