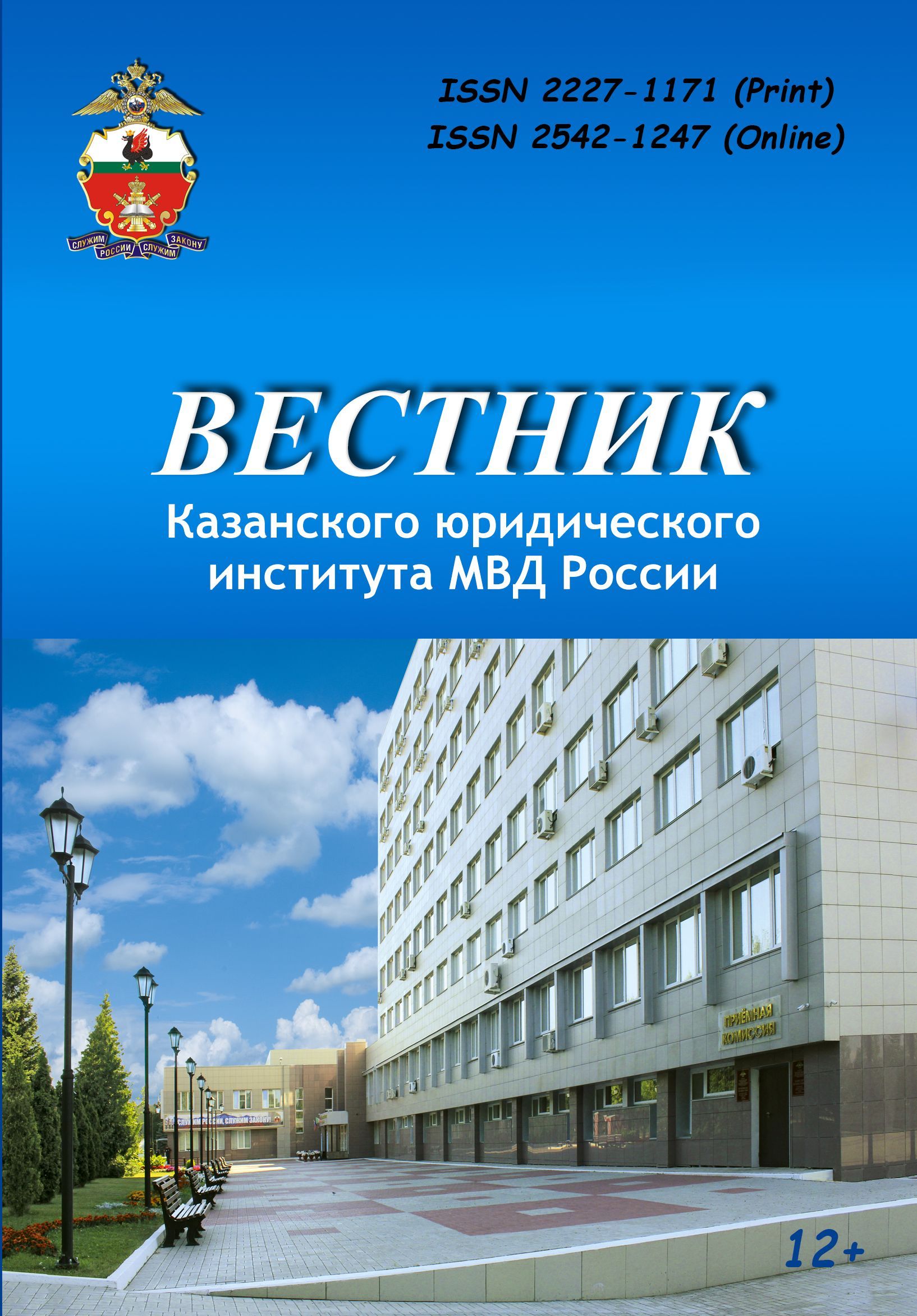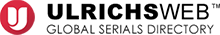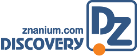Moscow, Russian Federation
UDC 343.1
Introduction: in the course of the research, the author examines the evolution of the institution of suspending a preliminary investigation in the context of changes in the criminal procedure legislation of Russia. Materials and Methods: the study utilized a system of scientific methods of cognition: dialectical method, historical, comparative-legal, systematic analysis, dogmatic (formal-legal), and statistical method. Results: the analysis of historical sources of criminal procedural legislation indicates that the concept of "suspension" (at that time – of preliminary investigation) first appeared in the 1864 Code of Criminal Procedure. However, the emergence of this concept was preceded by the "postponement of court proceedings" (both criminal and civil). As a result of constant changes in criminal procedural legislation, the authority to suspend proceedings was alternately granted to the investigator, the court, or the prosecutor; the grounds for suspending the investigation were both narrowed and later expanded again. There was no clear regulation of the grounds for resuming the investigation. Only with the adoption of the CPC RF in 1960 did the norms governing the suspension of pre-trial investigation gain independence, embarking on a path of progressive development that continues to this day. The norms regulating the suspension of inquiry require detailing and harmonization with other norms of procedural law, considering the practice of pre-trial investigation. Discussion and Conclusions: the author comes to the conclusion that the rules governing the suspension of an inquiry require elaboration and harmonization with other rules of the procedural law, taking into account the practice of pre-trial investigation.
suspension of preliminary investigation; formation of the institute; suspension of investigation
Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что преобразования, осуществляемые в России на пути становления правового государства, стимулировали совершенствование законодательства, в частности уголовного процессуального, результатом чего стало вступление в силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), принятого на смену УПК РСФСР, действовавшего в государстве еще с 1961 года.
Одним из принципов уголовного судопроизводства является осуществление его в установленные уголовно-процессуальным законом сроки (ст. 6 УПК РФ), для того чтобы каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности по мере своей вины. Организованная профессиональная деятельность дознавателя должна обеспечить соблюдение рассмотренного, а также других принципов уголовного судопроизводства.
В то же время в результате ряда объективных обстоятельств, предусмотренных ст. 208 УПК РФ, дознаватели не всегда могут закончить расследование в установленные законом сроки. Отметим, что для сохранения процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве действует институт приостановления. По сравнению с УПК РСФСР 1960 года, в действующем УПК РФ содержание этого института несколько изменено, дополнено новыми основаниями приостановления расследования уголовного дела.
Выяснение сущности института приостановления предварительного расследования, изучение истории его развития является первоосновой для его понимания, корректного использования и нормативного усовершенствования. Исследуя этапы становления института приостановления предварительного расследования, необходимо выяснить его содержание, проанализировать общие недостатки, возможности их устранения и совершенствование регулирующих процессуальных норм.
Обзор литературы
Теоретическую базу исследования составили научные работы по уголовному процессу, посвященные исследуемой проблематике, А.Д. Аветисяна, В.П. Антипова, Л.М. Бабкина, А.С. Барабаша, В.М. Быкова, А.Н. Заливина, Ф.К. Зиннурова, Е.С. Кудряшовой, В.П. Лаврова, А.В. Миликовой, И.А. Никулиной, Ж.П. Петуховой, О.Е. Политыко, А.М. Попова, А.А. Пудовкина, С.Б. Россинского, А.П. Рыжакова, Г.И. Седовой, К.В. Скоблика, В.Ю. Стельмаха, Д.С. Устинова, М.М. Хамгокова, Е.К. Черкасовой, С.М. Якубовой и др.
Материалы и методы
В исследовании использованы: диалектический, исторический, сравнительно-правовой методы, метод системного анализа, а также догматический (формально-юридический), статистический методы.
Диалектический метод позволил учитывать изменения и развитие института в историческом контексте. Использование исторического метода дало возможность проследить эволюцию норм, связанных с приостановлением расследования. Сравнительно-правовой метод был применен для анализа различий между действующим уголовно-процессуальным кодексом и предыдущими версиями.
Кроме этого, был применен системный анализ для изучения взаимосвязей между институциональными нормами и их влиянием на уголовный процесс.
Результаты исследования
Анализ литературных источников и нормативных правовых актов свидетельствует, что институт приостановления предварительного расследования имеет длительный путь становления и развития. Понятие «приостановление предварительного расследования» в уголовном процессуальном праве возникло значительно позже писаных норм отечественного законодательства, дошедших до нас только с Х века. Поэтому очевидно, что в то время не осуществлялось надлежащее нормирование движения материалов уголовного дела. Об этом свидетельствует, в частности, сборник правовых норм Древней Руси «Русская Правда», составленный фактически в XI веке1.
Согласно структурной единице 77 этого документа было предусмотрено преследование лица, совершившего преступление, по его следу. Представляется, что преследование могли осуществлять как установленное, так и неустановленное лицо до обнаружения или потери его следа. Однако движение уголовного дела в период розыска преступника не определяли.
В то же время понятие «приостановление расследования» в общем его понимании вообще не использовали, говорилось об «отложении судебного рассмотрения дела» (как уголовного, так и гражданского). Именно «отложение» предшествовало понятию «приостановление», о чем свидетельствуют положения некоторых законодательных актов XV-XVII веков. Однако, в отличие от «приостановления», термин «отложение» предполагает перенос или отсрочку определенного действия на определенный срок2 [5, c. 715], а приостановление – это прекращение действия на неопределенный срок.
Так, одним из первых упоминаний об отложении рассмотрения дела можно считать положения структурной единицы 10 Новгородской Судной грамоты 1471 г.: «А кто на ком поищет наезда, или грабежа в земном деле, ино судити наперед наезд и грабеж, а о земли после суд»3. Из содержания этой структурной единицы следует, что если при рассмотрении дела по земельному спору будет совершено такое преступление, как «наезд» или «грабеж», в отношении спорного имущества и/или кого-либо из участников этого дела, то рассмотрение дела отложат до завершения рассмотрения уголовного дела о «наезде» или «грабеже».
Впоследствии о возможности отложения рассмотрения дела судом отмечалось в ст. 28 Судебника великого князя Ивана IV 1550 года: «А которое будет дело судит царь и великий князь… и которой суд не кончается, оставят его в обговоре, и дьяку исцовы и ответчиковы речи велети записати перед собою; или о чем ся пошлют на послушество, и дьаку велети то записывали перед собою ж; да те ему дела держати у собя за своею печатью, доколе дело кончается…»4. Отложение рассмотрения дела в этом случае было возможно, в частности, при необходимости исследования имеющихся или представления дополнительных доказательств для объективного решения.
Конкретные основания отложения рассмотрения дела определены в ст. 118 и 149 главы Х «О суде» Соборного уложения 1649 года – суд имел право отложить рассмотрение дела в отношении лиц, находившихся на государственной службе, до ее окончания.
Поскольку почти до конца XIX века в Российской империи не было квалифицированных правоведов, процессуальное законодательство того времени в части определения основания возможного отложения рассмотрения дела было примитивным и разрозненным. Детальное внимание его систематизации не уделялось.
В «Правилах и формах о производстве следствий» 1849 года, составленных Е. Колоколовым в соответствии со Сводом законов Российской империи, вопрос об отложении дела также не раскрывался [1].
Важным правовым памятником российского уголовно-процессуального законодательства является Устав уголовного судопроизводства 1864 года5. Именно нормы Устава впервые регулировали понятие «приостановление» предварительного следствия. Несмотря на то, что Устав был достаточно прогрессивным нормативным правовым актом, определявшим порядок предварительного и судебного следствия, известный процессуалист XIX века В.П. Даневский считал, что предварительное следствие было едва ли не самой слабой частью уголовного процесса [2]. Этот документ содержал ряд процессуальных норм, определявших основания и порядок приостановления как предварительного, так и судебного следствия по уголовному делу (ст. 27, 277, 353, 354, 386, 388, 510, 523, 524, 529, 531-534, 542, 846-852, 1013-1015).
Поскольку сроки расследования не были ограничены, его приостановление производили только при невозможности направить дело в суд с обвинительным актом. Именно нормы Устава положили начало институту приостановления предварительного расследования, содержание отдельных норм которого актуально вплоть до настоящего времени.
Анализируя нормы Устава уголовного судопроизводства 1864 года, можно выделить две группы оснований приостановления уголовного преследования – юридические и фактические. Юридические основания приостановления предварительного следствия были для судебного следователя основанием для определения дальнейшего движения уголовного дела после получения решения гражданского или духовного суда.
Фактические основания приостановления предварительного следствия в Уставе были установлены, в частности, ст. 277, 353, 354, 356, 846-852. К указанным основаниям принадлежали следующие:
1) неустановление виновного лица, совершившего преступление;
2) заболевание обвиняемого психической болезнью;
3) побег или неустановление местонахождения обвиняемого.
В комментариях к ст. 276 Устава под редакцией А.Ф. Кони, В.К. Случевского и других отмечено, что наличие обвиняемой стороны необходимо для состязательного процесса, однако для процесса розыскного его может и не быть. Кроме того, по своему содержанию данная статья не обязывает судебного следователя при любых обстоятельствах продолжать следствие. Это противоречило бы основам целесообразности в деятельности следователя. В случае побега обвиняемого судебный следователь должен совершить все следственные действия, возможные в его отсутствие и принять необходимые меры по установлению его местонахождения. Однако если установить его не удавалось, следователь обязан был направить дело в суд для решения вопроса о его дальнейшем движении в порядке, определенном ст. 846-852 Устава уголовного судопроизводства 1864 года6.
Позиция названных ученых о деятельности следователя в случае неустановления местонахождения обвиняемого не вполне понятна, поскольку комментарий и норма статьи противоречивы – должен ли судебный следователь приостанавливать предварительное следствие на основании ст. 277 Устава или руководствоваться его ст. 276, в которой предусмотрена необходимость продолжения дела. Противоречивость этих статей не была устранена вплоть до утраты силы положений, названных Уставом.
Содержание ст. 277 Устава уголовного судопроизводства 1864 года также свидетельствует о том, что вопрос приостановления предварительного следствия был тесно связан с принятием решения о прекращении уголовного дела. Таким образом, при этих обстоятельствах решение о приостановлении предварительного следствия носило фактически формальный характер, поскольку дело сразу направляли в суд для решения вопроса о его прекращении.
Статьи 353-355.1 и ст. 397 Устава уголовного судопроизводства 1864 года регулировали процесс приостановления предварительного следствия в случае болезни. В последней статье болезнь, мешавшая обвиняемому явиться к следователю, имела временный характер и являлась, как представляется, физической причиной. Деятельность судебного следователя в случае возникновения вопроса о вменяемости обвиняемого была четко регламентирована ст. 353–355.1 Устава уголовного судопроизводства 1864 года, которые не предусматривали перерыва в производстве на этом основании. По обстоятельствам, указанным в ст. 397 Устава, возможность приостановления расследования также не предусматривалась.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года не содержал прямой нормы, которая позволяла бы судебному следователю приостанавливать предварительное следствие в связи с другой, кроме психической, болезнью обвиняемого. Очевидно, что это обстоятельство следует признать существенным недостатком в условиях, когда физическая болезнь лица действительно препятствовала участию обвиняемого в проведении необходимых процессуальных действий.
Процедуры приостановления предварительного следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемого регулировались ст. 846-852 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Суд, следуя этим нормам, мог по представлению судебного следователя или прокурора инициировать розыск обвиняемого и публиковать информацию о нем в местной губернской или сельской печати. Если обвиняемый предположительно находился за границей, то о его вызове в суд сообщали в публикациях на иностранных языках. При наличии обстоятельств, мешающих дальнейшему производству по делу, следователь направлял его в окружной суд, который, согласно ст. 510, 523, 524 и 529-534 Устава, рассматривал дело и принимал соответствующее решение.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года не определял порядок предъявления следователем обвинения и не регламентировал требования к постановлению о привлечении лица в качестве обвиняемого. Поэтому нерешенным оставался вопрос, какое лицо и с какого момента следует признавать обвиняемым, что, в свою очередь, влекло за собой приобретение соответствующих процессуальных прав и обязанностей, определенных в ст. 387, 399, 401, 403, 408, 415, 431, 469, 475, 476, 491, 492 Устава. Следует констатировать, что отдельной нормы, которая непосредственно определяла бы права и обязанности обвиняемого на предварительном следствии, Устав не содержал. Указанные нормы были размещены в разных статьях, в том числе среди общих прав и обязанностей участников предварительного следствия. Это недостаток был устранен лишь в более поздних нормативно-правовых актах, в частности, в УПК РСФСР 1960 года.
Возобновление предварительного следствия осуществлялось на основании ст. 542 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Недостаток этой нормы заключался в том, что она регламентировала процессуальные вопросы по возобновлению только прекращенных дел. Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного следствия Устав не регулировал. Этот подход законодателя, по мнению С.И. Викторского, свидетельствовал, что инициатива возобновления следствия принадлежала не судебной палате, а тем лицам, которые были уполномочены на возбуждение уголовного преследования в целом [3, с. 234].
Представляется, что инициировать возобновление следствия имела возможность и судебная палата, поскольку принять решение о прекращении дела могла именно она. В то же время, согласно ст. 846–852 Устава, розыск скрывшегося обвиняемого осуществлял именно суд, который направлял для этого соответствующие письма и объявления для непосредственного получения информации о его местонахождении.
Также положения ст. 542 Устава не запрещали это осуществлять в судебной палате. Поэтому инициатива возобновления следствия могла принадлежать именно ей, что упрощает порядок возобновления следствия, сокращает время на осуществление указанной процедуры. Кроме этого, в случае уклонения обвиняемого от наказания, когда дело находилось в суде, повторного проведения предварительного следствия Устав не требовал.
Анализируя нормы Устава уголовного судопроизводства 1864 года, следует отметить, что они не были совершенными по порядку их применения. В частности, в нем не были определены вопросы проведения процессуальных действий следователя по приостановленному предварительному следствию, возможности приостановления предварительного следствия в связи с физической болезнью обвиняемого, основания для его возобновления и т.д. Несмотря на определенные недостатки, нормы Устава, регламентировавшие предварительное следствие, актуальны для исследования и сейчас.
Следующим этапом в развитии уголовного судопроизводства явилось советское законодательство. Народный комиссариат юстиции РСФСР в 1920 году принял Инструкцию народным следователям7. С принятием этой Инструкции, основания приостановления предварительного следствия по сравнению с Уставом 1864 года, было существенно сужены. В Инструкции 1920 года нормировано только одно основание приостановления предварительного следствия, которое в Уставе относилось к юридическим, а именно – когда определение деяния преступным зависело от предыдущего решения гражданского спора. Однако в ней не было разделения оснований приостановления на фактические и юридические, по аналогии с Уставом 1864 года, как и объяснение причины для этого, что следует считать недостаточно последовательным и логичным подходом законодателя этого исторического периода.
Несмотря на то, что Инструкция 1920 года определяла обязанность народного следователя закончить предварительное следствие в месячный срок с момента предъявления обвинения, в случае невозможности это осуществить, он уже не был наделен правом приостановить дело, а сообщал о причинах промедления народному судье, определявшему дальнейшее движение дела. Таким образом, основания приостановления предварительного следствия по Инструкции 1920 года были не только сужены по сравнению с Уставом 1864 года, а и по своей сути они почти не решали существующие процессуальные проблемы.
Первый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР был принят в 1922 г. на 3-й сессии ВЦИК РСФСР8. Однако принятый Закон не внес существенных изменений по поводу приостановления предварительного следствия, предусмотренных Уставом 1864 года, однако, по сравнению с Инструкцией 1920 года, они были расширены.
УПК РСФСР 1922 г. внес существенные изменения в институт приостановления предварительного расследования, в частности, были урегулированы вопросы проведения процессуальных действий следователя по приостановленному делу, возможность приостановления предварительного следствия в связи с физической болезнью обвиняемого, основания для его возобновления, а также установлены сроки приостановления. Также полномочия приостановления и возобновления приостановленного расследования были закреплены за лицом, производящим расследование. Как недостаток – прекращение уголовного дела в связи с неустановлением лица, совершившего преступление.
Самым прогрессивным было развитие института приостановления предварительного расследования после принятия УПК РСФСР 1960 г. Как и в УПК РСФСР 1923 года, указанный институт был выделен в отдельную Главу XVII «Приостановление и окончание предварительного следствия». Предварительное следствие по уголовному делу приостанавливали на основании ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР 1960 г. в случае:
1) когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание;
2) психического или иного тяжкого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении;
3) неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 данной статьи, предварительное следствие приостанавливалось лишь по истечении срока на его производство; в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, оно может быть приостановлено и до окончания срока предварительного следствия [4, с. 158].
В то же время основания и порядок приостановления предварительного следствия, определенные пп. 1–3 ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР 1960 года, не были детализированы в отдельных статьях уголовно-процессуального закона. Возобновление предварительного следствия, согласно статье 198 УПК РСФСР 1960 г. осуществлял по необходимости сам следователь (дознаватель).
После вступления в силу 1 июля 2002 года ныне действующего УПК РФ порядок и основания приостановления предварительного расследования подверглись изменениям9. В частности, институту приостановления и возобновления предварительного следствия посвящена Глава 28. Эти изменения касаются не только количества статей, содержащих указанный институт, но и их содержательной составляющей.
Обсуждение и заключение
На основании проведенного анализа приходим к выводу, что институт приостановления предварительного расследования прошел сложное историческое развитие. Его становление и развитие обусловлены непосредственно генезисом государства, общественных и правовых отношений, в частности в сфере уголовного судопроизводства.
В заключение следует отметить, что система оснований приостановления предварительного расследования после длительного периода стагнации пополнилась новым положением. Его появление было продиктовано новыми внешнеполитическими вызовами и сложившейся обстановкой в стране, которая потребовала усилить обеспечение национальной безопасности и суверенного интереса нашей страны.
Изменение было введено Федеральным законом от 23 марта 2024 г. № 64-ФЗ в существующую систему оснований приостановления предварительного расследования10. Оно затронуло отдельно взятую категорию лиц, совершивших преступление, тех, кто попал под призыв либо заключил контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени, а также лиц, проходящих военную службу в указанные периоды.
На наш взгляд, предложенный законодателем порядок приостановления предварительного расследования по новому основанию является малоэффективным и вызывает определенные вопросы с позиции реализации принципа процессуальной самостоятельности следственных органов, а также процессуального руководства расследованием.
Как видим, сейчас происходит важный момент в развитии российского уголовного процесса. Возможно формирование двух отдельных систем - обычной и военной. Это отражает текущую политическую ситуацию и потребности государства.
В современных сложных международных условиях требуется создание обновленного уголовного процесса. Он должен учитывать исторические особенности России, национальный менталитет и накопленный практический опыт правоприменения.
Итак, следует заключить, что уголовное судопроизводство четко показывает внутреннюю политику государства и его способность поддерживать правопорядок. Поэтому так важно его грамотное реформирование с учетом новых вызовов времени. Исследуя нормы, регламентировавшие приостановление предварительного расследования с момента его возникновения и по сей день, можно сделать вывод, что они всегда нуждались в детализации и гармонизации с другими нормами процессуального закона, как того требует практика предварительного расследования.
В действующем УПК РФ вопрос законодательного регулирования порядка приостановления предварительного расследования и применения правовых норм также остается не вполне решенным, поэтому нуждается в дальнейшем исследовании и усовершенствовании.
1. Kolokolov E.F. Pravila i formy o proizvodstve sledstvij, sostavlennye po Svodu zakonov kollezhskim assessorom E. Kolokolovym. Moskva, 1849. 166 s. URL: https://www.prlib.ru/item/438786?ysclid=lpycp445ci381824379 (data obrashcheniya 05.02.2025).
2. Danevskij V.P. Nashe predvaritel'noe sledstvie, ego nedostatki i reforma / prof. Vsevolod Danevskij. Moskva: t-vo skoropech. A.A. Levenson, 1895. 89 s. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003553471?ysclid=lpycxfornw756155106 (data obrashcheniya 05.02.2025).
3. Viktorskij S.I. Russkij ugolovnyj process. 2-e izd., ispr. i dop. Moskva.: A.A. Karcev, 1912. 443 s.
4. Epifanov A.E. K voprosu o preodolenii probelov i kollizij dejstvuyushchego zakonodatel'stva v pravoprimenitel'nom processe // Paradigmy upravleniya, ekonomiki i prava. 2020. № 2. S. 153 – 162. EDN: https://elibrary.ru/FGKMFN