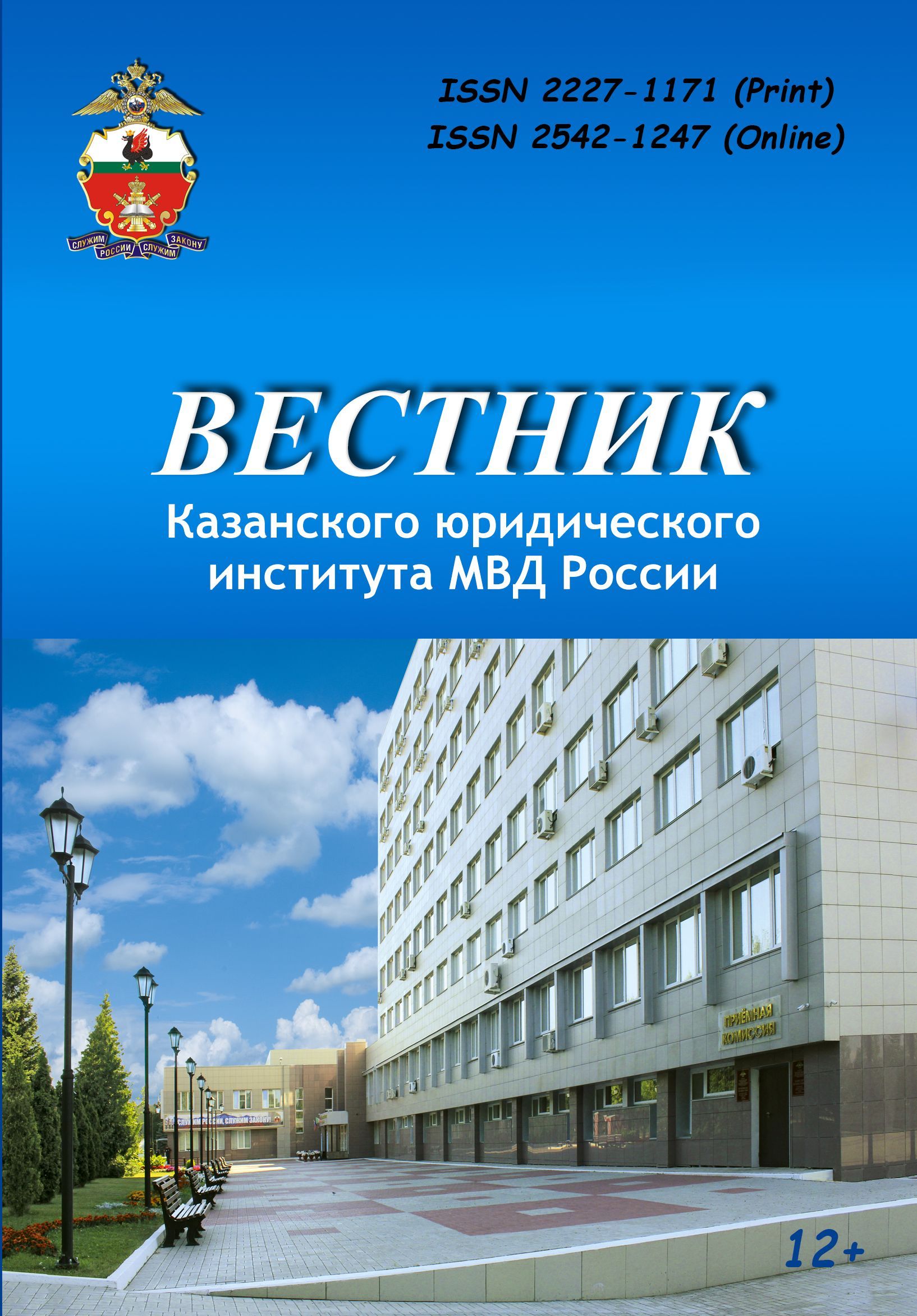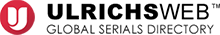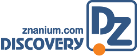from 01.01.2023 to 01.01.2024
Saint-Petersburg, St. Petersburg, Russian Federation
UDC 340.113
Introduction: the article provides a comparative legal analysis of the consolidation of the concept of "trust" in foreign and domestic sources of law. The necessity for this study is indicated by the requirement to identify the features of the influence of historical and cultural factors on the formation of legal aspects in the social phenomenon of "trust". The objective of the present study is twofold: firstly, to ascertain the general and specific origins of the concept of "trust" in foreign and Russian law; and secondly, to determine the consolidation of this concept in the two legal systems. Materials and Methods: the study draws upon a range of materials and methods, incorporating foreign and Russian regulatory legal acts, as well as case law from foreign countries. The methodological basis of the study incorporates traditional general scientific methods (e.g. analysis and synthesis) and specific scientific methods (e.g. specific legal and comparative legal). Literature Review: a comprehensive review of the existing literature was conducted to inform the study. The study of the issues of the genesis of the concept of "trust" in the sources of law of various legal systems was conducted using the works of the following authors: D.P. Gubarets, A.A. Zhdanova, M.V. Zaharova, V.V. Kozhevnikov, O.A. Krivenko, V.S. Maslyakov, N.P. Mayurov, E.N. Morozova, T.A. Nagornaya, K.V. Nam, G.G. Nebratenko, M.R. Nenarokova, A.A. Popova, L.P. Rasskazov, V.V. Rovnoy, E.N. Harlamova and others. Results: the results of the comparative legal analysis conducted allowed the author to establish that the concept of "trust" in foreign and Russian legal sources had a largely moral character. However, as the process of modification and complication continued, it acquired features that allow it to be characterised not only as a social, but also as a legal phenomenon.
trust; bona fides; fiducia; law; morality; ethics; sources of law
Введение
Вопросы использования в источниках права понятий, пришедших в теорию и практику правового регулирования из сферы морали и нравственности, обладают высокой актуальностью в современной юридической науке. Право апеллирует к справедливости как идее, лежащей в основе морали. Принципиальные грани взаимодействия права и морали остаются неизменными – мораль оказывает влияние на право [1, с.254]. Многовековая история развития феномена «доверие» отражает культуру социального взаимодействия людей. В процессе усложнения общественных отношений и, как следствие, системы социального регулирования доверие приобретает черты, характеризующие его не только как социальный, но и как юридический феномен.
Преобразование государственно-правовой действительности порождает изменение сущностных особенностей доверия, условий его формирования и выражения. Исследование исторической ретроспективы возникновения и закрепления понятия «доверие» в зарубежных и российских источниках права позволяет выявить сущность доверия как социоюридического феномена, установить основные проблемы его применения в источниках права в различных правовых семьях и в различные периоды, определить тенденции его развития.
Материалы и методы
Материалами для исследования послужили нормативные правовые акты, материалы судебной практики, доктринальные источники права, религиозные тексты. При проведении исследования были проанализированы отечественные и зарубежные источники права, датируемые XI веком и более поздними периодами, включая современность. Из сведений, содержащихся в рассматриваемых источниках, удалось отследить процесс наделения социального явления «доверие» правовыми чертами и формализацией его в праве. Установлено, что рассматриваемое понятие, начиная с периода Средневековья, затрагивало по большей части сферу гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений.
Методологическую основу сбора и обработки данных исследования составили традиционные общенаучные методы (анализ, синтез) и частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический) методы. С помощью сравнительно-правового метода были установлены происхождение и основные этапы становления и развития понятия «доверие» как социоюридического феномена в правовых источниках рассматриваемых стран. Выявлено общее, особенное и единичное в становлении и развитии понятия «доверие» в источниках права стран романо-германской, англо-саксонской религиозной правовых систем. Формально-юридический метод позволил установить, что закрепленного понятия «доверие» в источниках права рассматриваемых стран в различные временные периоды, в том числе в современный период, нет. В них присутствуют производные понятия, такие как «коррективное конструктивное доверие», «доверительная собственность», «доверительное управление», «доверенность», «злоупотребление доверием» и иные. Помимо этого, с помощью применяемого метода удалось выявить внешние признаки социоюридического феномена «доверие» на базе его применения в источниках права некоторых стран.
Обзор литературы
Рассмотрение проблематики истории становления понятия доверия в источниках права становится возможным благодаря работам современных зарубежных и отечественных авторов. Исследование генезиса понятия «доверие» в праве стран романо-германской правовой системы проведено с использованием работ Г.Е. Дал Понт, К.В. Нам, Д.П. Губарец, Е.А. Поповой, О.А. Кривенко и других авторов. Научная публикация Л.П. Рассказова «Романо-германская правовая семья: генезис, основные черты и важнейшие источники» позволила выявить исторические и культурные особенности стран романо-германской правовой системы, оказывающие влияние на становление понятия «доверие» в законодательстве. Раскрыть специфику природы данного феномена в англо-саксонской правовой системе становится возможным благодаря работам А.А. Жданова, В.В. Кожевникова, О.А. Кривенко. Исследование А.А. Жданова «Возникновение и развитие доверительной собственности в Англии и США» поднимает вопросы рассмотрения развития института доверительной собственности как правовых отношений, выстраиваемых на доверии. Важное значение для установления происхождения понятия «доверие» и его применения в праве религиозных правовых систем имеют труды Н.П. Маюрова. Вопросы, затрагивающие период современности, отражены в одной из последних работ автора: «Традиционные и религиозные правовые семьи в странах современного мира».
Среди нерешенных вопросов в пределах общей проблемы остается потребность в выявлении специфики становления понятия «доверие» в источниках права разных государств. Многосторонний подход к изучению данного феномена позволит исключить его рассмотрение в плоскости только межличностных отношений.
Результаты исследования
Проводимый анализ возникновения и развития понятия «доверие» в зарубежных и отечественных источниках права включает исследование опыта государств, относящихся к романо-германской, англо-саксонской и религиозной (мусульманской) правовым семьям. Хронологические рамки проводимого анализа охватывают период возникновения и первого применения понятия «доверие» в источниках права каждой из рассматриваемых правовых семей; период развития и трансформации понятия вследствие усложнения общественных отношений и совершенствования источников права; период современного представления о понятии «доверие» с точки зрения социоюридического феномена в обозначенных группах стран.
Обратимся к регламентации понятия «доверие» в источниках права стран первой группы. Зарождение понятия «доверие» в источниках права стран романо-германской правовой семьи происходит в период становления Древнеримского государства. Римская культура строилась на личных и общественных добродетелях, лежащих в основе не только межличностных, но и правовых отношений. Среди таких категорий можно выделить pietas – поведение, продиктованное чувством долга [2, с. 454], veritas – честность, правдивость [3, с. 60], lustitia – справедливость1, nobilitas – благородство2, bona fides – доверие, вера. Считается, что последняя категория является основой для понимания норм римского права, своеобразной опорой всех правоотношений в Риме. Bona fides олицетворяет собой ожидание правильного поведения и тем самым выполнения данных обещаний и корреспондирующее этому доверие тому, что обещание будет исполнено [4, с. 98]. Принцип bona fides признается частью естественного права и неотделим от общепризнанного принципа pacta sunt servanda (от лат. – договоры должны соблюдаться) [5, с. 95].
В ходе исследования были проанализированы наиболее значимые источники римского права: Свод законов двенадцати таблиц (V в. до н.э.), Институции Гая (II в. н.э.), Дигесты Юстиниана (VI в. н.э.). В тексте первого анализируемого источника упоминание понятия «доверие» отсутствует.
В Институциях Гая понятие «доверие» не раскрыто, но в нем содержатся такие термины, как доверенность, доверительная манципация, доверительное управление, доверительное поручение3. Указаны две разновидности доверительного договора fiducia, а именно fiducia cum creditore (доверительный договор с кредитором) и fiducia cumamico (доверительный договор с другом) [6, с. 43]. В процессе совершенствования права ряд упомянутых терминов претерпевает изменения.
Важную роль для римского права имеют Дигесты Юстиниана, представляющие собой часть свода римского гражданского права. Юстиниан придавал им законную силу и запрещал делать к ним поправки и комментарии4. В процессе кодификации Юстиниана совершенствовался принцип bona fides, прочно закрепившийся в формулярном процессе. Доверие в тексте Дигестов Юстиниана транслировали через призму нравственной составляющей человека, его способности поступать по совести, в то время как положение в обществе и материальная обеспеченность не имели отражения на уровне доверия к человеку. Также кодексом Юстиниана была отменена доверительная манципация, вместо термина «mancipatio» введен термин «traditio».
Упомянутый ранее принцип bona fides лег в основу законодательства ряда зарубежных стран, например, законодательства Германии. Анализ исторических источников права Германии позволил установить, что дальнейшее развитие заложенного в древнеримском праве понятия «доверие» было отражено в правовом сборнике Германии XIII в. «Саксонское зерцало» (нем. Sachsenspiegel). В § 5 ст. 61 Книги Первой упоминается термин «доверитель», характеристика такого лица отсутствует. В § 4 ст. 32 Книги Третьей отмечено следующее: «…оспорить это он может сам-сем со своими родственниками или достойными доверия людьми»5. Понятие «доверие» в тексте правового сборника отражает надежность стороны, которой оно оказывается; акцентируется внимание на том, что необходимо быть достойным такого отношения, заслужить его, проявить свои лучшие качества.
В Уголовно-судебном уложении Священной Римской империи германской нации 1533 года «Каролина» помимо термина «доверие» использованы термины «доверитель» и «недоверие»6. В понятии отражаются критерии к состоянию доверия сторон правоотношений: неоднократно подчеркивается, что доверие необходимо заслужить достоверными доводами или доказательствами; в словах и поступках должны быть выявлены признаки истины, доверие не может быть безосновательным. Не заслуживающий доверия человек именуется в тексте уложения «лихим», то есть приносящим беду.
Исследование более поздних источников права Германии, например, Гражданского уложения от 18 августа 1896 г. (нем. Bürgerliches Gesetzbuch) позволило установить, что понятие «доверие» и производные от него в тексте источника не применялись.
В современном периоде термины «доверие», «недоверие», «доверять» содержатся в Основном законе Федеративной Республики Германии. Например, в ст. 67 указано, что «Бундестаг может выразить недоверие Федеральному канцлеру лишь таким образом, что большинство членов Бундестага изберет его преемника и обратится к Федеральному президенту с просьбой об отстранении от должности Федерального канцлера»7.
Наиболее глубокий след римское право оставило в сфере частного права Германии. В новое время принципы римского права, в том числе и субъективный bona fides, был использован при составлении Гражданского кодекса Германии [7, с.179]. В современном немецком праве существует понятие «доверие» (Vertrauen). Этот термин встречается в различных правовых контекстах, особенно в гражданском праве. Основным источником гражданского права Германии является Гражданский кодекс Германии (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). В BGB понятие доверия играет важную роль, например, в следующих случаях:
1. Добросовестность (Treu und Glauben), § 242 BGB.
2. Защита добросовестного приобретателя (Vertrauensschutz), § 932 BGB.
Таким образом, понятие «доверие» присутствует и используется в гражданском праве Германии в контексте добросовестности и защиты добросовестного приобретателя.
В Уголовном уложении Федеративной Республики Германия применяются термины «доверие», «доверять», «злоупотребление доверием», «нарушение доверия», «доверительные отношения». § 353а «Нарушение доверительных отношений на дипломатической службе» гласит: «Тот, кто, представляя ФРГ перед иностранным правительством… действует вопреки должностному указанию или представляет неверные отчеты фактического свойства с намерением ввести в заблуждение Федеральное правительство…»8. Дипломатические отношения, выстраиваемые на доверии, не должны противоречить должностным указаниям, а также намеренно вводить в заблуждение. Зачастую введение в заблуждение отождествляют с обманом, например, в философском словаре Андре Конт-Спонвиля обман определяется как ложь, произносимая с целью ввести в заблуждение9. Отсюда можно предположить, что нарушение доверительных отношений на дипломатической службе может произойти путем обмана.
Выше отмечено, что романо-германская система как таковая сформировалась в XII – XIII вв., т.е. после рецепции в Европе римского права. В дальнейшем в развитии этой системы наибольших результатов добились германские юристы. «Доверие» отражено в ряде современных нормативных правовых актов Германии, в том числе в Основном законе государства, что подчеркивает высокую значимость данного феномена для правовой сферы стран романо-германской правовой семьи.
Значительный толчок в развитии романо-германской правовой системы наблюдался в период после буржуазных революций в Европе, когда начался активный процесс кодификации права. К этому времени в континентальной Европе лидером в правовом развитии стала Франция [8, с.13]. Рассмотрим Уголовный кодекс (Code Pénal) Франции 1810 г., пришедший на смену Уголовному кодексу Франции 1791 года. Ст. 58. Уголовного кодекса Франции 1810 года (ред. закона 26 марта 1891 г.) конкретизирует, какие наказуемые деяния в случае рецидива относятся к тождественным проступкам (même délit): «воровство, мошенничество и злоупотребление доверием рассматриваются с точки зрения рецидива как тождественные проступки»10. Дословно même délit можно перевести как «то же деяние», следовательно, приведенные деяния соотносятся как равные между собой, несмотря на то, что они обладают разными характеристиками. На основании вышесказанного логично предположить, что активный процесс кодификации права Франции после буржуазных революций сопровождался использованием в нем понятия доверия с выделением его характерных черт с точки зрения социоюридического феномена.
Современное законодательство Франции также имеет нормы, в которых содержится данный термин. В действующей Конституции Франции 1958 года11 «доверие» встречается неоднократно, а именно в статьях 34-1, 49, 50-1. Каждое применение данного термина сопряжено с вопросом о доверии к Правительству.
Обобщая сказанное, следует сделать вывод, что понятие «доверие» зародилось в древнеримском праве и получило дальнейшее развитие в странах романо-германской правовой системы. Помимо этого, особое значение в развитие романо-германской правовой системы привнесли последствия буржуазных революций в Европе. Отталкиваясь от истории развития права, современное законодательство стран указанной правовой семьи использует понятие «доверие» в различных отраслях. Однако единая дефиниция в нем отсутствует, в качестве основы применения данного понятия используют созданный в Древнем Риме принцип bona fides.
Место российской правовой системы по отношению к современным правовым системам дискуссионно. В то же время многие исследователи относят современную Россию к романо-германской правовой семье, отмечая общность по многим параметрам. Не вступая в полемику по этому вопросу, отметим, что общность российской правовой системы с национальными правовыми системами государств романо-германской правовой семьи по юридико-техническому критерию не вызывает сомнений. Для рассмотрения источников российского права, в которых возник и применялся термин «доверие», использована следующая периодизация истории России12: IX – вторая половина XII в. – образование и становление Древнерусского государства; вторая половина XII в. – XIV вв. – русские земли в период политической раздробленности и монголо-татарского нашествия; XV – XVII вв. – образование и развитие Московского государства; XVIII – начало XX в. – Российская империя; 1917 – 1991 гг. – Советское государство; 1991 гг. – новое время – формирование новой России – Российской Федерации [9, с. 83 – 84].
Зарождение понятия «доверие» в источниках российского права следует отнести к периоду Древней Руси. Выдающимся юридическим документом того времени являлся сборник правовых норм «Русская Правда», датированный различными годами, начиная с 1016 года. Понятие «доверие» не имело в нем официального закрепления, однако в отдельных правовых нормах прослеживались первые упоминания о данном феномене. В период Древней Руси отдельные правовые нормы регламентировали отношения, выстраиваемые на доверии. Однако официального закрепления понятия «доверия» и разъяснения его сущности в источниках права не было. Человек, заслуживающий доверия, и на чью добросовестность можно было опираться при разрешении спорных ситуаций в рамках правового поля, именовался человеком «доброй славы».
В таких источниках права второй половины XII в. – XIV вв., как церковные уставы, договоры с представителями других государств, договоры между княжествами, развитие понятия «доверие» не прослеживается. На рубеже двух последующих периодов истории России формируется Псковская судная грамота – памятник русского права XIV – XV веков, регулирующий по большей части гражданско-правовые отношения13, для которых характерно совершение сделок на лично-доверительных отношениях сторон во избежание рисков. Значительные отличия данного нормативного правового акта от ранее рассматриваемой Русской правды заключаются в усовершенствовании юридической техники написания Псковской судной грамоты и расширении в ней круга регулируемых отношений. Относительно регулирования гражданско-правовых отношений важно учитывать, что представители западноевропейских стран тщательно подходили к совершению сделок во избежание обмана, что имело свое отражение в юридических нормах. На Руси люди выстраивали отношения на «силе купеческого слова», иными словами, на устном заверении в качестве гарантии исполнения обязательств, доверяя друг другу.
Понятие «доверие», лежащее в основе подобных сделок, в тексте Псковской судной грамоты не закреплено, что может быть обосновано лаконизмом изложения правовых норм рассматриваемого источника права. «Доверие» выступает как подразумеваемое понятие, которое явно не указано, но на него следует ссылаться в договоре для обозначения намерений сторон и во избежание рисков. Используемые в тексте источника лексемы «доверие» и «доверять» имеют по большей части нравственно-оценочный характер и воспринимаются участниками правоотношений субъективно. При этом указанные лексемы содержатся в структурных элементах правовых норм и говорить об их исключительно нравственном характере неверно.
Источники права в рассматриваемом периоде совершенствовались, в них появлялись более сложные юридические конструкции, перенимаемые от западноевропейских стран, основанные на римском праве. Однако общественные отношения, требующие императивного регулирования, на Руси по большей части все еще выстраивались только на доверительном взаимодействии, что порождало за собой такие негативные последствия, как риск быть обманутым и лишиться своего имущества.
Анализируя источники права периода Российской империи, заключим, что наибольший интерес представляют акты конституционного значения. Они регулировали особо значимые общегосударственные вопросы, распространялись на все население государства, и оттого, насколько точно воспринимался термин «доверие» разными слоями населения, зависело достижение общего целевого смысла издаваемых актов, содержащих данный термин. Необходимо отметить манифест «Образование Государственного Совета» императора Александра I, изданный в 1810 году. В тексте манифеста термин «доверие» встречается в форме устаревшего слова русского языка «доверенность» (доверенность (устар.) – то же, что доверие14). Понятие использовано в перечислении главных начал, на основе которых образуется Государственный совет: «Совет составляется из особ, доверенностью нашею в сословие призываемых». Доверие выступало ключевым критерием в отборе кандидатов в Государственный совет, о чем свидетельствует использование термина в перечислении основ, на которых выстраивалась деятельность данного органа власти.
В советский период отчетливо прослеживается трансформация понятия «доверие» в источниках права в зависимости от изменений в общественно-политической жизни и экономике. Различия в содержании понятия «доверие» и частота его применения прослеживается в текстах конституций СССР. Результат анализа основных законов советского периода показал, что «доверие» содержится в тексте конституций СССР 1924 года и 1977 года. Отсутствие какого-либо упоминания о доверии в тексте Конституции СССР 1936 года можно обосновать особенностями политического режима того времени.
Обратимся к основным законам СССР 1924 года и 1977 года для анализа закрепления в них понятия «доверие». В окончательной редакции Конституции СССР 1924 года показан контраст между лагерем капитализма и лагерем социализма. Понятие «доверие» использовано в качестве аргументации в подтверждение положительного влияния построения социализма на развитие общества: «здесь, в лагере социализма, взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов», «только в лагере Советов оказалось возможным создать обстановку взаимного доверия»15.
В Конституции СССР 1977 года термин «доверие» используется единожды в контексте вопросов, связанных с деятельностью народных депутатов. Причиной этого послужило то, что атмосфера недоверия порождала подозрительность, критический настрой и непринятие любых действий Совета народных депутатов, в связи с чем происходило негативное влияние на восприятие деятельности представительных органов государственной власти СССР и союзных республик, а также на обеспечение общегосударственных интересов и интересов граждан. Используемая в законе формулировка «депутат, не оправдавший доверия избирателей» позволяет выделить доверие граждан в качестве условия легитимности представителей власти, что способствует формированию более полного и конкретного представления о понятии. Помимо этого, научный интерес вызывает законодательное закрепление факта нарушения доверия – «не оправдать доверия», из которого следует, что доверие может являться составляющей правопрекращающего юридического факта.
Вопрос об ответственности органов государственной власти и должностных лиц за недоверие к их деятельности актуален и для современного российского законодательства. Последняя редакция Конституции Российской Федерации от 6 декабря 2022 года содержит следующий ряд статей, в которых отражено понятие «доверие»: ст. 75.116, ст. 103, ст. 117.
В связи с этим можно сделать вывод, что вопрос о доверии органам власти или должностным лицам отражен в нормах российского законодательства разных временных периодов, при этом единая дефиниция понятия «доверие» все еще не закреплена. Это порождает ряд вопросов о применении законодательных норм, содержащих данный термин. Например, предусматривает ли доверие к должностному лицу его право на совершение естественных ошибок, которые подразумевают обязанность принимать на себя возможные риски в процессе государственного и общественного развития в случае какого-либо просчета [10, с. 35], или деятельность, основанная на доверии, не допускает подобных ошибок? Дать ответ на подобные вопросы становится возможным только при закреплении единого понятия «доверие» в юридическом смысле, поскольку в упомянутых ранее нормативных правовых актах доверие выступает понятием подразумеваемым, то есть априорно сопровождающим взаимодействие людей [11, с. 21] и с институтами государственной власти.
Основы англосаксонской правовой системы были сформированы в Англии. Отличительной чертой данной семьи считается то, что главным источником права выступает судебный прецедент, а основными творцами права являются судьи [12, с. 153]. Период англосаксонского права (с V в. до 1066 г.) характеризуется наличием многочисленных законов и обычаев варварских племен германского происхождения (англов, саксов, датчан и др.) [13, с. 60].
Одним из первых источников, в котором появляется понятие «доверие», являются Законы Кнута (первая половина XI века). В тексте приведенных законов данное понятие упоминается неоднократно («свидетельства четырех достойных доверия человек» – п. 24; «двух достойных доверия лиц» – п. 30.1; «если есть кто-нибудь, кому во всем народе нет доверия» – п. 33)17. Нормы права формулировались лаконично, не предполагая раскрытия содержания отдельных понятий. Нельзя не отметить религиозное влияние на общество того времени, что находило отражение и в законодательстве. Отсюда можно предположить, что понятие «доверие» отражало веру человека в праведность, честность, бескорыстие, чистоту помыслов, богоугодное поведение другого человека. При этом данное понятие было связано с возникновением правовых обязанностей отдельных лиц.
Концепция доверия продолжила свое развитие в Англии XII века в виде современного «траста» (от англ. trust – доверие), который представляет собой фидуциарное правоотношение, участниками которого являются учредитель траста, передающий другому лицу – доверительному собственнику – доверенное имущество для управления в интересах третьего лица – бенефициара18. Развитие траста не было связано с особой судебной процедурой, а также с созданием новой доктрины собственности и договора в праве Англии [14, с. 7]. В XII веке понятие траста не было оформлено законодательно, сформировать представление о его содержании становилось возможным благодаря судебным решениям по вопросам, затрагивающим доверительное управление имуществом. Характеристиками траста, исходя из судебных актов, выступали: наличие владельца имущества и доверенного лица, осуществление передачи права собственности на основе доверительных отношений между сторонами правоотношений, возникновение прав и обязанностей сторон по вопросам, связанным с доверенным имуществом. В процессе совершенствования законодательства правовые основы траста расширялись, что послужило основой для его современного представления.
Переходя к современности, отметим, что в 2000 году в Англии был издан закон «О доверительных собственниках» (The English Trustee Act) (ред. от 29.04.2021). Он закрепляет в качестве общей статутной обязанности доверительного собственника обязанность проявления надлежащей заботливости о доверенном ему имуществе, что представляет собой сугубо субъективный элемент правоотношения, и поэтому устанавливает правила, специально предписывающие, чтобы оценка ожидаемого уровня заботливости производилась при обязательном учете опыта и навыков доверительного собственника [15, с. 127]. Исходя из текста статей, можно выделить ключевые характеристики понятия доверия. Анализ текста данного закона позволяет установить, что доверие является субъективным элементом правоотношений; влечет за собой определенные правила и обязанности; обладает рядом критериев: требует от человека, которому оно проявлено, заботливости и внимательного отношения к собственности; невозможно без учета необходимых навыков и опыта со стороны человека, которому оно оказывается.
Ранее указано, что концепция доверия нашла свое отражение в законодательстве Англии еще в первой половине XI века и продолжает развиваться по настоящее время, трансформируясь под новые реалии общества и юридической науки. В начале своего становления в праве Англии понятие доверия было расплывчатым, обладало чертами, предписанными церковным влиянием. Сегодня, несмотря на отсутствие закрепленного понятия, в законодательстве указаны его черты, характерные для тех правовых отношений, которые регламентирует тот или иной закон.
Еще одним ярким представителем англо-саксонской правовой семьи является Австралия. История правовой системы Австралии во многом предопределялась историей общего права – историей его возникновения и развития, которая в свою очередь в значительной мере была и остается историей английского права [16, с. 123]. Отсюда следует, например, появление понятия «доверительное управление» в законодательстве Австралии.
Решения Верховного суда Австралии оказывают важное воздействие на правовую сферу Содружества. В 1985 году Верховный суд Австралии вынес решение по делу Мущински против Доддса (Muschinski v Dodds)19, которое оказалось основополагающим в признании «коррективного конструктивного доверия» в австралийском законодательстве. Важным в данном деле стало решение Дина Дж., доводы которого остаются единственной согласованной попыткой Верховного суда исследовать юридическую природу конструктивного доверия к австралийскому законодательству20. Конструктивное доверие можно охарактеризовать как институт правовой защиты, который устанавливает справедливость независимо от фактического или предполагаемого соглашения или намерения, чтобы предотвратить сохранение или утверждение бенефициарного владения имуществом в той степени, в какой такое сохранение или утверждение было бы противоречащим принципу справедливости21.
Прецедентное право обладает таким преимуществом, как широкая вариативность ситуаций, нуждающихся в рассмотрении, многие из которых обладают новыми, важными для сферы правового регулирования деталями. Данный случай не является исключением. Поднятие вопроса о коррективном конструктивном доверии позволило сформулировать и закрепить его понятие, важное для юридической науки и для законодательства ряда стран (Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Канады и США).
Разная история того и другого права породила и разную группировку норм во всех отраслях права, и выработку разных концепций. Ведь концепции романо-германских правовых систем вырабатывались главным образом университетами на базе римского права. Английские же концепции возникли из различных старых форм судебной процедуры и пронизаны духом средних веков, хотя они с тех пор и были значительно модифицированы применительно к нуждам современного общества22. При этом каждая из рассматриваемых правовых систем имеет обширную историю возникновения и закрепления понятия «доверие» в праве.
Для стран, относящихся к религиозной (мусульманской) правовой семье, характерным является то, что в качестве источников права признается правовой обычай, нормы религиозных источников права, традиции и иное. Поскольку в основе организации подобных правовых систем положены принципы специфики правовой культуры, являющейся частью общей культуры народов, каждая из них отличается своей уникальностью [17, с. 56]. Религиозная (мусульманская) правовая семья обладает по большей части религиозным содержанием, в ней отчетливо прослеживается процесс исламизации правовых институтов.
К странам с религиозной правовой системой относят Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Египет и другие. Право Саудовской Аравии базируется на шариате и исламском праве, в основе которого лежит Коран (священное писание) и Сунна (образцы поведения и жизни в обществе на примере пророка Мухаммеда). В тексте религиозных писаний можно обнаружить многократное употребление термина «доверие». Следствием единения права с религией в рамках теологической теории происхождения государства и права стало восприятие понятия «доверие» с двух сторон, а именно как морально-этическое и политико-правовое.
Для более полного анализа возникновения и закрепления понятия «доверие» в источниках права Королевства Саудовская Аравия, образованного в начале XX века, необходимо обратиться к историческим образованиям на ее территории. В таких архаичных источниках, как Мединская конституция и доктрина «Фикх», относящихся к VII веку, понятие «доверие» не зафиксировано. Среди более поздних источников термин «доверие» неоднократно использован в тексте Конституции Османской империи 1876 г., в котором он имеет различные интерпретации («доверие поданных к власти», «доверяясь божественной милости», «общественное доверие», «заслуживающий доверия»23). Вариативность использования термина «доверие» в рассматриваемом источнике права подтверждает взаимообусловленность права и принципов исламской религии. В тексте одного источника термин «доверие» применяется при характеристике отношения граждан к государственной власти и одновременно в контексте преданного служения Богу. Более поздние источники права, предшествующие образованию Королевства Саудовская Аравия, не содержат понятия «доверие», но имеют к нему отсылки. Исторический основной закон Королевства Хиджаз 1926 г. содержит правовую норму, регламентирующую «тщательное соблюдением основ истинной религии», в которых неоднократно указано о доверии к ближним и Богу. Тенденция использования религиозных источников в основе права прослеживается и в последующих нормативных актах. Основное положение Королевства Саудовская Аравия, принятое в 1992 г., в качестве Конституции закрепляет Коран и Сунну, в которых понятие «доверие» раскрывается как неотъемлемое качество каждого мусульманина, выраженное в верности обещаниям.
На современном этапе понятие «доверие» встречается в Законе об учреждении региональных властей королевства Саудовская Аравия («буду выполнять мои обязанности с честностью, доверием, преданностью и справедливостью» – ст. 6)24; Законе о судебной власти («если член судебной системы потерял доверие и уважение, требуемое для должности, он должен быть отправлен в отставку» – ст. 51)25 и иных. Как следует из указанного, в праве стран религиозной (мусульманской) правовой системы прослеживается своя специфика зарождения и дальнейшего применения рассматриваемого понятия. «Доверие» в правовом поле стран, относящихся к религиозной правовой системе, имеет теологическое происхождение, однако с течением времени оно стало обладать правовыми характеристиками.
Обсуждение и заключение
Проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет определить общее и особенное в зарождении и закреплении понятия «доверие» в зарубежном и российском праве. Сходство становления понятия «доверие» в источниках права рассматриваемых группах стран выражено в нескольких аспектах. Во всех обозначенных правовых семьях «доверие» изначально рассматривалось исключительно как морально-этическое понятие, лежащее в основе межличностной коммуникации и организационного взаимодействия людей. Рассматриваемое понятие в своем содержании раскрывало предсказуемость поведения членов общества и складываемую из этого социальную стабильность. В результате практической деятельности было установлено влияние доверия на юридические права и обязанности сторон, риски, которым они подвергаются; правомерность поведения сторон. Как следствие, неюридический термин «доверие» был закреплен в источниках зарубежного и российского права. В процессе совершенствования права для каждой из рассматриваемых групп стран стало характерным применение понятия «доверие» в вопросах регулирования сразу нескольких видов правоотношений (гражданских, семейных и иных). Это свидетельствует о постепенной трансформации рассматриваемого понятия, наделении его все большим количеством правовых характеристик, повышении его значения в вопросах правового взаимодействия сторон. От него стали зависеть потенциальные риски, исполнение обязательств сторон, защита прав участников правоотношений и многое другое. К правовым характеристикам понятия «доверие», транслируемым в процессе совершенствования зарубежного и российского права, относили наличие двух и более участников правоотношений, совпадение волеизъявлений сторон, открытость намерений и искренность мотивов поведения. На современном этапе дефиниция «доверие» отражена в тексте правовых источников всех рассматриваемых стран. Само понятие «доверие» в контексте социоюридического феномена в зарубежном и российском праве не закреплено, имеет интуитивный характер восприятия. Понятие «доверие» в современном представлении отражает сущностную основу права, оказывающую влияние на поведение как отдельно взятых индивидов, так и общественных групп, институтов.
Выделяя особенные черты возникновения и развития понятия «доверие» в источниках права рассматриваемых правовых семей, необходимо отметить следующее. Период зарождения понятия «доверие» в источниках права варьируется в зависимости от исторических и культурных особенностей анализируемых групп стран. В правовых источниках романо-германской правовой семьи понятие «доверие» зародилось в период Древнего Рима в результате формирования правовых категорий древнеримского права, одной из которых выступала юридическая категория bona fides. Отечественный опыт демонстрирует интеграцию понятия «доверие» во времена становления российского государства. Оно зародилось как важная составляющая правоотношений, что прослеживалось в сборнике правовых норм «Русская Правда» 1016 года. В англо-саксонской правовой системе понятие «доверие» зародилось в первой половине XI века и отождествляло веру человека в праведность и чистоту его помыслов, преимущественно в процессуальном институте доказывания. В странах религиозной правовой семьи «доверие» как нравственное понятие впервые было отражено в религиозных текстах, например, в Священном Писании (с 610 по 632 год). В процессе развития понятия «доверие» в источниках права рассматриваемых правовых семей устанавливаются особенности специфики понятия, а также его преобладающее применение в разных отраслях права. В правовых источниках романо-германской правовой семьи содержание понятия «доверие» затрагивало преимущественно вопросы гражданских сделок. Далее понятие развивалось как основа для ряда правовых обязательств, подкрепленная принципами справедливости и добросовестности, само понятие выражено в строго формализованной форме. Правовая система России обладает сходством формально-юридических признаков с правовыми системами романо-германской правовой семьи. Из этого следует общность возникновения понятия «доверие» как основы гражданско-правовых отношений. В каждом историческом периоде России важной чертой доверия, присущей ему и сегодня, являлось оказание влияния на формирование сбалансированной системы взаимных прав и обязательств участников правоотношений. Специфика развития понятия в англо-саксонской правовой системе заключается в более вариативном подходе к понятию «доверие» в рамках прецедентного права, что позволяет с течением времени выделять новые правовые черты понятия и учитывать их в последующей судебной практике. Это отчетливо прослеживается в практике судебных обращений по вопросам доверительного управления имуществом (траста). Помимо этого, прецедентное право англо-саксонской правовой системы способствует выявлению производных от доверия понятий, таких как «коррективное конструктивное доверие». На становление концепции доверия в праве стран религиозной (мусульманской) правовой семьи большое значение оказали особенности культуры. Спецификой ряда мусульманских стран является исламизация права, в результате которой религиозные тексты приравниваются к основным законам государства. Подобный опыт демонстрирует Королевство Саудовская Аравия. Первоначально понятие в религиозных правовых семьях отождествлялось с доверием к Творцу, создавшего человека из идеи блага. В процессе единения права и религии изначально этическое понятие приобрело правовую характеристику. Термин «доверие» преимущественно наблюдается в источниках права, регламентирующих государственно-служебные отношения. Разносторонняя история возникновения и закрепления понятия «доверие» в зарубежном и российском праве подчеркивает закономерность и логичность его применения в юридической практике, а также позволяет наиболее полно и безошибочно сформировать содержание понятия, опираясь на международный опыт.
1. Harlamova E.N. Moral' i pravo: aktual'nye aspekty vzaimodejstviya v sovremennoj strukture social'nogo regulirovaniya // Obrazovanie i nauka bez granic: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya. 2019. № 9. S. 253 – 256. EDN: https://elibrary.ru/YBBHME
2. Nenarokova M.R. Alkuin. \"Splendida cum rutilat…\" (opyt filologicheskogo kommentariya) // Indoevropejskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya. 2009. S. 448 – 457.
3. Nagornaya T.A., Maslyakov V.S. Leksiko-semanticheskaya interpretaciya konceptov «Pravda», «Truth» i «Verdad» v russkoj, anglo-amerikanskoj i ispanskoj yazykovyh kartinah mira // Yazyk i kul'tura. № 1 (33). 2016. S. 58 – 71. DOI: https://doi.org/10.17223/19996195/33/5; EDN: https://elibrary.ru/VQGKJH
4. Nam K.V. Istoriya principa dobrosovestnosti (Treu und Glauben) do prinyatiya Germanskogo grazhdanskogo ulozheniya // Lex Russica. 2018. № 5(138). S. 97 – 108. DOI: https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.138.5.097-108; EDN: https://elibrary.ru/XPPUTZ
5. Gubarec D.P. Princip bona fide v mezhdunarodnom prave // Sovremennoe pravo. № 9. 2011. S. 95 – 97. EDN: https://elibrary.ru/OFXOHV
6. Rovnyj V.V. Zametki o fiduciarnom dogovore. Fiducia v rimskom prave // Sibirskij yuridicheskij vestnik. 2015. № 2. S. 39 – 51. EDN: https://elibrary.ru/TXOSEV
7. Popova E.A. Evolyuciya ponyatij «Spravedlivost'», «Dobrosovestnost'», «Doverie» v rimskom i nemeckom prave // Vestnik NNGU. 2014. № 3-2. S. 178 – 180.
8. Rasskazov L.P. Romano-germanskaya pravovaya sem'ya: genezis, osnovnye cherty i vazhnejshie istochniki // Yurist"-Pravoved". № 5 (66). 2014. S. 12 – 16. EDN: https://elibrary.ru/TGUUQN
9. Arzamaskin Yu.N. Periodizaciya istorii Rossii: prozrachnaya yasnost' ili trudnejshaya golovolomka? // Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta. 2013. № 2 (10). S.81 – 84. EDN: https://elibrary.ru/SFKYFR
10. Morozova E.N. Velikaya russkaya revolyuciya 1917 goda: ot fevral'skih sobytij do Oktyabr'skogo perevorota // Izv. Sarat. Un-ta Nov. ser. Seriya «Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya». 2018. S. 35-46. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-2018-18-1-35-44; EDN: https://elibrary.ru/XMOJBR
11. Subhangulov R.E. Fenomen doveriya kak faktor social'nogo vzaimodejstviya: social'no-filosofskij analiz: avtoref. dis. … kand. fil. nauk: 09.00.11. Chelyabinsk, 2016. 22 s. EDN: https://elibrary.ru/ZQGHLJ
12. Sogomonyan L.M. Problema vzaimodejstviya pravovyh semej v sovremennom mire // Ekonomika i socium. № 3-3 (16). 2015. S.152 – 156. EDN: https://elibrary.ru/VJWOJJ
13. Kozhevnikov V.V. Sovremennoe anglijskoe obshchee pravo: novoe prochtenie // Vestnik OmGU. Seriya «Pravo». № 4 (45). 2015. S. 53 – 64. EDN: https://elibrary.ru/UYSFWZ
14. Zhdanov A.A. Vozniknovenie i razvitie doveritel'noj sobstvennosti v Anglii i SShA: avtoreferat dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.01. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2003. 27 s. EDN: https://elibrary.ru/NHKXWJ
15. Krivenko O.A. Anglijskij zakon o doveritel'nyh sobstvennikah 2000 // Vestnik RUDN. Seriya «Yuridicheskie nauki». 2007. № 5. S. 127 – 129. EDN: https://elibrary.ru/IIWYVV
16. Popova A.A. Rasprostranenie anglijskogo prava v britanskih koloniyah Avstralii // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2005. № 2. S. 123 – 126. EDN: https://elibrary.ru/MWLEEB
17. Mayurov N. P. Tradicionnye i religioznye pravovye sem'i v stranah sovremennogo mira // Social'no-politicheskie nauki. 2017. № 5. S. 56 – 59.