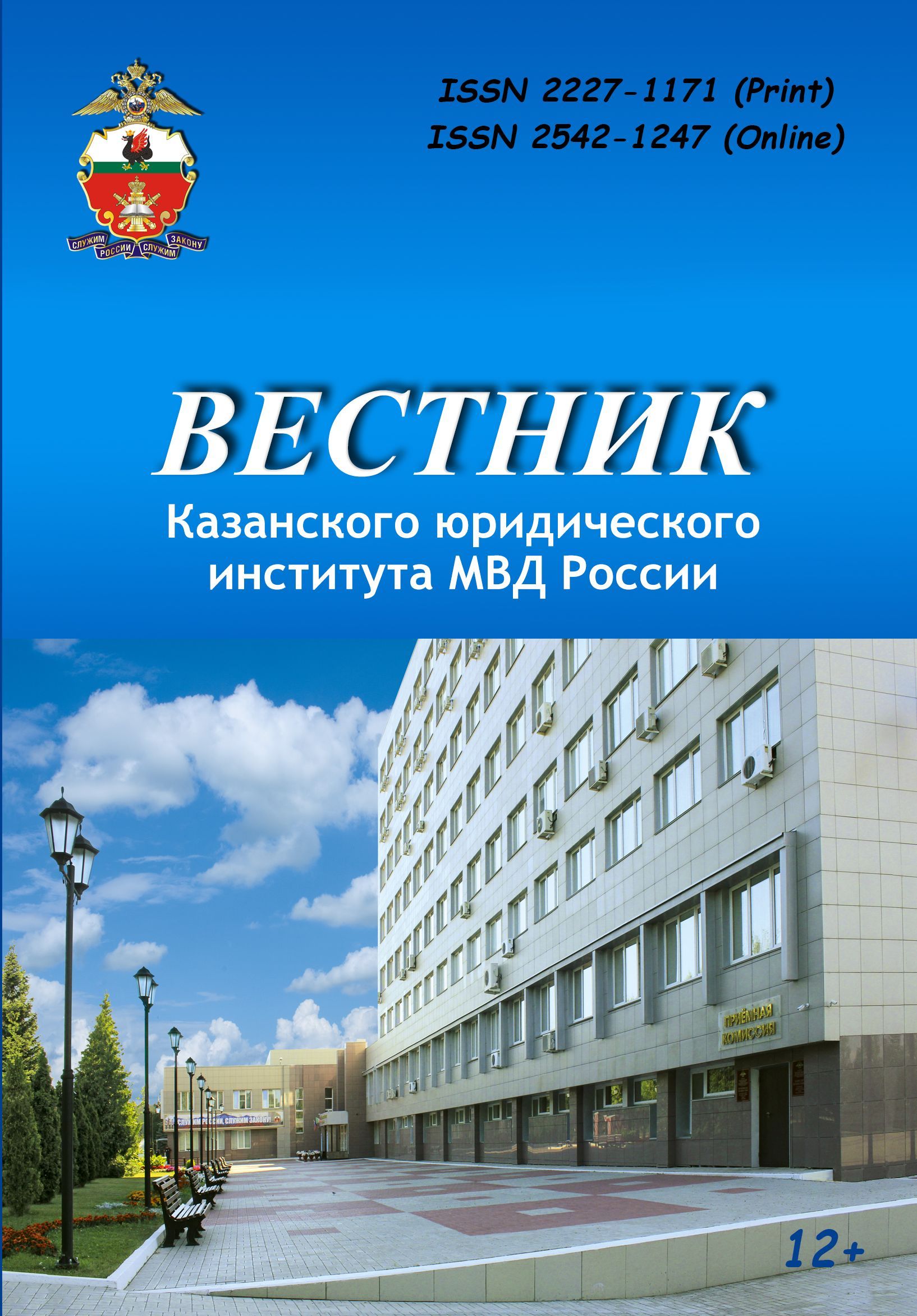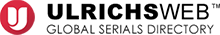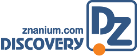УДК 343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. Криминалистика
Введение: статья посвящена обстановке преступления, предусмотренного частью 3 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации, выражающейся в трех альтернативных признаках. Раскрываются сущность каждого из признаков и их соотношение между собой. Приведены конкретные ситуации, которые следует рассматривать в качестве иных действий с применением вооружения и военной техники. Материалы и методы: методологическая основа исследования представлена общенаучными методами: анализ, индукция и дедукция. Также для более качественного решения задач исследования применялись методы описания и обобщения. Результаты исследования: на основе анализа научной литературы и положений нормативных правовых актов рассмотрен вопрос о целесообразности закрепления обстановки преступления в трех альтернативных признаках. Обсуждение и заключение: автор пришел к выводу о целесообразности нахождения соответствующих признаков в части 3 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации
вооруженный конфликт; военные действия; иные действия с применением вооружения и военной техники, вооруженное столкновение
Введение
Современный мир переживает эпоху социальных потрясений, которые зачастую перерастают в вооруженные конфликты. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 году в 56 государствах происходили вооруженные конфликты, три из которых подпадали под определение крупного (гибель более 10000 человек)1.
Вооруженные столкновения приводят к катастрофическим последствиям: гибели не только военных, но и мирных жителей, ухудшению экономики, появлению беженцев и ряду других.
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в статью 208 УК РФ была введена часть 32. Данная норма, наряду с защитой интересов России, призвана противодействовать конфликтам как таковым и их последствиям.
Диспозиция рассматриваемого состава преступления в качестве юридически значимых признаков содержит вооруженный конфликт, военные действия и иные действия с применением вооружения и военной техники.
Необходимо уяснить содержание каждого из указанных признаков и определить их соотношение между собой, поскольку правовая определенность уголовно-правового запрета способствует доступности понимания того, какого криминального поведения стоит избегать. В связи с этим следует согласиться с мнением А.Г. Хлебушкина, что все три термина должны быть сопоставимы между собой по характеру и масштабу [1, с. 49].
Обзор литературы
Вопросы, касающиеся вооруженных конфликтов, в том числе в качестве обстановки преступления, были предметом исследования отечественных и зарубежных ученых: М. Вашакмадзе, Я.Н. Ермоловича, А.И Малышева, В.Н. Мардусина, Н. Мельцера, А. Паулюса, С.Н. Тарадонова, В.Ю. Хахалева, А.Г. Хлебушкина, М. Шмитта и других.
Результаты исследования
Вооруженный конфликт
Справедливо отмечают исследователи, говоря о том, что категории «вооруженный конфликт» и «военные действия» широко используются в российском законодательстве, позаимствовавшем их из международных правовых актов [2, с. 83].
Международное правовое сообщество не раз предпринимало попытку дать всеобъемлющее определение вооруженному конфликту, но до сих пор оно так и не дано [3, с. 129-130], ввиду того что Конвенции ясно не излагают его дефиницию. По этой причине толкования данного термина формулируются из комментариев к Женевским Конвенциям, судебной практики международных трибуналов и доктринальных положений.
Так, один из авторитетных в научных кругах комментариев к указанным Конвенциям Ж. Пикте гласит, что под вооруженным конфликтом следует понимать «любое разногласие, возникающее между двумя государствами и ведущее к вмешательству вооруженных сил… даже, если одна из Сторон не признает состояния войны» [4, с. 49-50].
На очередной сессии в 2010 г. Комиссия международного права ООН разработала новое определение вооруженного конфликта как «ситуации, при которой имеет место применение вооруженных сил между государствами, или длительное применение вооруженной силы между правительственными силами и организованными вооруженными группами»3. В данном случае стоит отметить, что вооруженная сила отождествляется с понятием военного насилия.
Судебная практика, а именно Апелляционная камера Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), предложила следующее определение вооруженного конфликта: «Вооруженный конфликт имеет место всегда, когда в отношениях между государствами используются вооруженные силы или, когда имеет место длительное вооруженное насилие между правительством и организованными вооруженными группами или между такими группами в рамках одного государства»4. Подобной трактовки указанного термина впоследствии стал придерживаться Римский статут Международного уголовного суда5.
Следует акцентировать внимание на том, что толкование вооруженного конфликта по международному гуманитарному праву достаточно широкое. Это обусловливается его целью – облегчить, насколько возможно, бедствия и лишения, приносимые боевыми действиями, следовательно, подобное толкование дает возможность охватить наибольшую сферу для его реализации.
В отечественном законодательстве легальное определение вооруженного конфликта закреплено в Военной доктрине Российской Федерации (далее – ВД РФ), в соответствии с которой под ним понимается вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт)6. Следовательно, для такого рода конфликта характерно применение вооружения и столкновение, под которым стоит подразумевать, в частности, бой с противником, представляющим собой «организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр соединений… в целях уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других тактических задач в ограниченном районе в течение короткого времени»7.
Весьма примечательно, что ВД РФ разделяет понятия «вооруженный конфликт» и «война», при этом объединяя их термином «военный конфликт» (…включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты) (курсив наш – А.М.).
Определение вооруженного конфликта, закрепленное в ВД РФ, практически дословно воспроизведено в ч. 2 раздела II постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11, при этом в нем прямо указано на отсутствие перехода государства в состояние войны8.
Таким образом, отечественное законодательство качественно разделяет войну и вооруженный конфликт, несмотря на то что по международному праву они соотносятся между собой как часть и целое соответственно. Данное положение следует из ст. 2 общей для всех Женевских Конвенций 1949 г., в которой закреплено, что «Конвенция будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта9». Разделив между собой указанные термины, отечественный законодатель не указал критерии такого разграничения, в связи с этим такую позицию обоснованно критикуют, акцентируя внимание на том, что «Военная доктрина тоже не дает ответа на вопросы, связанные с сущностью и содержанием войн и вооруженных конфликтов» [5, с. 11].
В прошлом существование войны в юридическом смысле зависело от официального объявления войны10. Однако после Второй мировой войны начался пересмотр положений, касающихся военной терминологии, результатом которого стало то, что в настоящее время термин «война» практически не используется (определение, отображающую содержательную сущность не закреплено ни в отечественном, ни в международном гуманитарном праве), его заменяют на более широкое понятие «вооруженный конфликт» или различного вида операции (гуманитарные и т. д.) [6, с. 24].
В свою очередь, в отечественном уголовном праве также можно встретить случаи, в которых термин война заменяется вооруженным конфликтом. В качестве примера можно привести ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Как следует из названия статьи, оно уже его содержания, поскольку не охватывает те ситуации, которые выходят за рамки термина «война». Однако в диспозиции закреплен термин «вооруженный конфликт»: «применение в вооруженном конфликте средств и методов..». Таким образом, несмотря на то, что ВД РФ разделяет войну и вооруженный конфликт, ст. 356 УК РФ фактически отождествила два данных понятия, придерживаясь подхода, закрепленного в международных договорах.
Вместе с тем такое отождествление представляется не совсем верным, поскольку нормативно закрепленные определения данных терминов разграничивают их.
Военные действия
Прилагательное «военный» означает «относящийся к войне»11. Подразумевает ли это, что военные действия находятся исключительно во взаимосвязи с войной и возникают только после ее объявления?
Согласно Военному энциклопедическому словарю под военными действиями следует понимать: 1) противоборство сторон в войне и 2) организованные действия вооруженных сил, воинских формирований в ходе войны при выполнении задач оперативного и стратегического масштабов12. Иными словами, состояние войны необходимо для признания действия военными.
Исходя из толкования международных соглашений, следует отметить, что под военными действиями понимаются средства и методы реализации вооруженного конфликта13, основной целью которых является «нанесение вреда неприятелю» [7, с. 68-69].
Из вышеизложенного следует, что военные действия являются средством реализации вооруженного конфликта. Таким образом, в любой его разновидности (международный или немеждународный) присутствуют военные действия, представляющие собой применение военной силы, в противном случае если указанных действий не будет, то нельзя говорить и о вооруженном конфликте как таковом.
В свою очередь, в отечественной научной доктрине существуют различные точки зрения по этому поводу.
Так, Я.Н. Ермолович считает, что «под военными действиями следует понимать организованное применение сил и средств для выполнения поставленных боевых задач (достижения целей войны) (курсив наш А.М.) подразделениями, частями, соединениями, объединениями всех видов вооруженных сил государства. Военные действия могут сопровождать начало войны, а могут не сопровождать [2, с. 84]». Таким образом, автор связывает военные действия с термином «война».
Напротив, А.И. Худяков отмечает, что для признания действий военными «не обязательно, чтобы эти действия были признаны таковыми как следствия объявления войны, военного или чрезвычайного положения, — достаточно фактического проведения воинских операций с применением оружия или военной техники» [8, с. 647]. Думается, что такая трактовка не подходит для целей ч. 3 ст. 208 УК РФ, поскольку в таком случае нельзя явственно отграничить военные действия от вооруженного конфликта и иных действий с применением вооружения и военной техники.
Как отмечают исследователи, военные действия всегда отличаются масштабом: они проводятся на стратегическом уровне, в отличие от боевых, которые ведутся на тактическом уровне [9, с. 21]. При этом критериев разграничения, позволяющих ясно дифференцировать одни действия от других, не сформулировано. Не только в российской военной науке существует подход, согласно которому в качестве критерия следует относить масштаб проводимых операций. Так, в законодательстве Республики Казахстан закреплено легальное определение военных действий, согласно которому под ними следует понимать «комплекс действий стратегического (курсив наш А.М.) масштаба (включая боевые действия) с применением всех видов Вооруженных сил для выполнения поставленных боевых задач при отражении агрессии»14.
Представляется нецелесообразным в качестве критерия для признания соответствующих действий военными учитывать масштаб проведения операций, поскольку для следователя установление их уровня (стратегический или тактический) невозможно, учитывая тот факт, что каждая сторона конфликта будет намеренно преувеличивать свои наступательные действия в рамках пропаганды и так называемой информационной войны.
Нормативного определения военных действий нет. Однако в соответствии с ч. 2 Раздела I постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2023 № 11 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы» под военными действиями следует понимать действия, которые ведет Российская Федерация в военное время по отражению вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации15.
С.В. Тарадонов отметил, что данное определение вызывает сомнение в объективности, поскольку оно раскрывается не через содержательную сущность, а сквозь другую нетождественную юридическую конструкцию – военное время [9, с. 22], под которым следует понимать период с момента объявления федеральным законом состояния войны в случае вооруженного нападения (агрессии) на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации либо с момента фактического начала военных действий до момента объявления об их прекращении, но не ранее фактического прекращения16.
Таким образом, военные действия начинаются:
- с момента объявления федеральным законом войны (вооруженное нападения на РФ или на другое государство, с которым у России заключен договор в сфере обороны, например, с членами ОДКБ);
- с фактического начала военных действий.
Согласимся с позицией С.В. Тарадонова о неудачной формулировке определения, поскольку в данном случае нарушаются так называемые правила дефиниций, требующие, чтобы определение не содержало круг – когда дефиниция определяется через дефидент, а дефидент был определён через дефиницию (военные действия – действия, происходящие с момента фактического начала военных действий).
Следует отметить, что вышеприведенное определение не может быть взято за основу для целей ч. 3 ст. 208 УК РФ, поскольку оно предполагает, что Российская Федерация является стороной военного конфликта, в то время как согласно диспозиции ч. 3 ст. 208 УК РФ Россия может и не быть противоборствующей стороной.
Представляется целесообразным рассматривать военные действия через призму положений международных актов. Согласно ст. 1 Гаагской конвенции об открытии военных действий от 18 октября 1907 г., военные действия между государствами не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое может иметь форму либо мотивированного объявления войны, либо ультиматума с условным объявлением войны17. То есть военные действия неразрывно связаны с моментом объявления войны или иного предупреждения.
Также из определений локальной войны и вооруженного конфликта18 из ВД РФ следует, что военные действия являются исключительным признаком войны.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что по международному праву военные действия представляют собой применение вооруженной силы независимо от наличия или отсутствия состояния войны, в то время как, в соответствии с отечественным законодательством, военными действиями следует считать применение вооруженной силы в состоянии войны.
Как отмечают исследователи, в настоящее время «государственный актор, находясь в состоянии войны, применяет невоенные меры как одну из форм ведения военных действий, что также явно отличает последние от боевых действий» [9, с. 22]. Вышеизложенное обусловливает проанализировать формы ведения военных действий для целей ч. 3 ст. 208 УК РФ.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11 под военными действия понимает действия, предпринимаемые Россией по отражению нападения другого государства, при этом не акцентируя внимание на их содержании. Представляется, что данные действия могут выражаться и в экономическом аспекте, в частности, в мобилизации экономики.
Однако, на наш взгляд, не стоит о невоенных мерах говорить как о составляющей военных действий для целей ч. 3 ст. 208 УК РФ, поскольку очевидно, что основными средствами отражения агрессии будут указанные в п. 7 ст. 1 Федерального закона № 61-фз «Об обороне» специализированные органы (Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и т. д.19). В противном случае, деятельность рабочих на заводе по изготовлению снарядов также будет являться военными действиями.
При анализе соответствующих определений необходимо указать, что вооруженный конфликт характеризуется «состоянием», а военные действия — активностью, следовательно, возникает закономерный вопрос: почему вместо термина «военные действия» законодатель не использовал термин «война», которое также характеризует состояние? Ответ, на наш взгляд, видится вполне очевидным.
Так, юридическим началом войны является её объявление, при этом, по верному замечанию исследователей, она не обязательно сопровождается боями и иными аналогичными действиями [2, с. 84]. Поскольку вред наносится именно военной активностью (применение военной силы), которая осуществляется в рамках той или иной войны, то именно она была криминализирована.
На первый взгляд, в целях экономии правового материала и оптимизации объема диспозиции нормы следовало бы объединить термины «вооруженный конфликт» и «военные действия» обобщающим понятием «военный конфликт». Однако такая позиция не может быть признана состоятельной по следующей причине.
Согласно подп. «г» п. 8 ВД РФ под военным конфликтом следует подразумевать форму разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты). Следовательно, совокупность войн и вооруженных конфликтов не исчерпывает полностью содержания военного конфликта, существуют ситуации, которые не подпадают под определение вышеперечисленных терминов, но при этом являются частью военных конфликтов. Возникает закономерный вопрос: что следует отнести в содержание военного конфликта помимо вооруженных конфликтов и войн?
А.И. Малышев, Ю.Ф. Пивоваров и В.Ю. Хахалев считают, что к таким ситуациям следует относить военные акции, вооруженные инциденты, пограничные вооруженные конфликты и другие вооруженные столкновения ограниченного масштаба [5, с. 14], дефиниции которых были закреплены в утратившей силе Военной доктрине Российской Федерации от 1996 года20. Однако, по справедливому замечанию исследователей, подобные изолированные инциденты «не достигают уровня вооруженного конфликта в том смысле, как этот термин применяется в гуманитарном праве [10, с. 130]».
Ввиду того что вышеперечисленные категории обладают намного меньшей общественной опасностью, чем вооруженный конфликт и военные действия, законодатель целенаправленно вывел их из юридического поля ч.3 ст. 208 УК РФ, не закрепив в диспозиции термин «военный конфликт».
Иные действия с применением вооружения и военной техники
Следующим признаком, требующим уяснения, являются действия с применением вооружения и военной техники. Некоторые ученые рассуждают об оценочности данного понятия и необходимости его легального или судебного толкования [11, с. 92]. Для уяснения указанного признака представляется целесообразным определиться с понятийно-категориальным аппаратом.
Термин «вооружение и военная техника» закреплен в ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами21» и определяется как «комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники)». Аналогичные определения содержатся в ряде иных документов22.
Следует акцентировать внимание также на том, что между военной техникой и вооружением присутствует соединительный союз «и», который предполагает обязательное наличие этих двух составляющих.
Уяснив смыслообразующие понятия, перейдем к определению сущности самих действий с применением вооружения и военной техники.
Сторонами вооруженного конфликта и военных действий являются государственные акторы, исключением является только немеждународный вооруженный конфликт, где одной из противоборствующих сторон является не государство, при этом все столкновения происходят в пределах территории одной страны. Но возможны случаи, когда конфликт не ограничивается территорией одного государства, а одной из сторон противостояния является негосударственное образование. Таким образом, описанный конфликт имеет дуалистический характер, одновременно содержа черты международного и немеждународного вооруженных конфликтов. Возникает закономерный вопрос: является ли подобного рода конфликт новым видом, или это разновидность уже существующего?
Этот вопрос не раз возникал перед специалистами по международному праву. Так, в деле «Хамдан против Рамсфелда» (Hamdan vs Rumsfeld)23, Правительство США утверждало, что конфликт с террористической организацией «Аль-Каида»24 не являлся международным, так как в нем не было двух противостоящих друг другу государственных образований, но и немеждународным такой конфликт тоже не был, поскольку разворачивался на территории нескольких государств. В ответ на такой довод Верховный Суд США отметил, что такое рассуждение ошибочно, поскольку «термин «конфликт немеждународного характера» используется здесь в противопоставление конфликту между нациями …и в контексте фраза «не международного характера» имеет свое буквальное значение (то есть должна толковаться расширительно)».
Рассматриваемый пример по действующему отечественному законодательству не подпадает ни под категории «международный вооруженный конфликт» и «внутренний вооруженный конфликт», ни под «военные действия», следовательно, стоит рассматривать указанную ситуацию как иные действия с применением вооружения и военной техники.
Следующей обстановкой, которую следует отнести к рассматриваемой категории, является оккупация. Её юридический статус закреплен в Женевской Конвенции от 1949 года: «Конвенция будет применяться также во всех случаях оккупации всей или части территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встретит никакого вооруженного сопротивления»25. То есть, если государство введет войска на территорию другого суверенного государства и не встретит никакого сопротивления, то это следует расценить как вооруженный конфликт.
В свою очередь, по российскому законодательству обязательным признаком военных конфликтов является вооруженное противоборство (подразумевает вооруженное столкновение между сторонами). Данный вывод следует из анализа определений соответствующих терминов в Военной Доктрине Российской Федерации: «военный конфликт ... понятие охватывает все виды вооруженного противоборства; вооруженный конфликт – вооруженное столкновение» (курсив наш – А.М.).
Таким образом, поскольку оккупацию территории иностранного государства без ведения боев и без объявления войны нельзя по отечественному законодательству отнести юридически ни к вооруженному конфликту, ни к военным действиям, её следует отнести к иным действиям с применением вооружения и военной техники.
Существует позиция, согласно которой три признака, характеризующие обстановку в диспозиции ч. 3 ст. 208 УК РФ, следовало объединить одним термином – «военный конфликт» [12, с. 375]. Считаем такое предложение не совсем корректным, поскольку как уже отмечалось выше, в случае если стороной конфликта является образование, не обладающее международной правосубъектностью, при этом конфликт протекает на территории двух государств, то данное вооруженное противоборство не подпадает под термин «военный конфликт».
Обсуждение и заключение
Таким образом, следует сделать вывод, что три альтернативных признака, представляющих обстановку преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 208 УК РФ, не поглощаются друг другом, не соотносятся между собой как часть и целое и имеют свою юридически закрепленную сферу применения. В случае указания лишь на одну из рассматриваемых категорий возникла бы вероятность упущения определенной ситуации, которая бы оставалась вне юридического поля. В связи с этим считаем, что рассматриваемая норма обоснованно содержит указанные признаки.
1. Хлебушкин А.Г. Переход на сторону противника и участие в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации: вопросы квалификации // Уголовное право. 2022. № 12. С. 48 – 57. DOI: https://doi.org/10.52390/20715870_2022_12_48; EDN: https://elibrary.ru/IYHOLJ
2. Ермолович Я.Н. О признании совершения преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий обстоятельством, отягчающим наказание // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2017. № 5. С. 81 – 86. EDN: https://elibrary.ru/YKOZBZ
3. Паулюс А., Вашакмадзе М. Асимметричная война и понятие вооруженного конфликта – попытка разработать концептуальную модель // Международный журнал Красного Креста. 2009. № 873. С. 127 – 170.
4. Pictet J.S. (Ed.) Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. – ICRC, 1952. 688 с.
5. Малышев А.И., Мардусин В.Н., Хахалев В.Ю. Анализ трансформации основных категорий военной конфликтологии в доктринальных основах РФ // Военная мысль. 2023. № 8. С. 6 – 15. EDN: https://elibrary.ru/APJONV
6. Малышев А.И., Мардусин В.Н., Хахалев В.Ю. Категории «война» и «вооруженный конфликт»: сходство и различие // Военная мысль. 2022. № 2. С. 21 – 30. EDN: https://elibrary.ru/JUWMNK
7. Мельцер. Н. Непосредственное участие в военных действиях: руководство по толкованию понятия в свете международного гуманитарного права // МККК. 2009. 110 с.
8. Худяков А.И. Страховое право. Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова; Юридический центр Пресс, 2004. 910 с.
9. Тарадонов С.Н. Боевые действия, военные действия, военное время, законодательство военного времени: соотношение понятий, проблемы терминологии // Право в Вооруженных Силах. 2023. № 12. С. 15–23. EDN: https://elibrary.ru/WXAIOW
10. Шмитт М. Электронная война: нападение на компьютерные сети и jus in bello // Международный журнал Красного Креста: сборник статей. 2002. С. 121 – 162.
11. Ермолович Я.Н. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.07.2022 № 260-ФЗ // Право в Вооруженных Силах. 2022. № 11. С. 89 – 102. EDN: https://elibrary.ru/OTXVYQ
12. Литвяк Л.Г. Характеристика отдельных изменений, внесенных Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ в УК РФ // Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда». 2022. С. 374 – 378. EDN: https://elibrary.ru/RWVQUJ